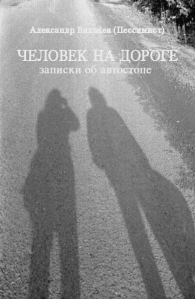Александр Вяльцев (Пессимист). «Человек на дороге». Записки об автостопе
You’re never too old to Rock’n’Roll
if you’re too young to die.
Ian Anderson
Предисловие автора
Источников мало, руководств – нет. Область – едва ли не эзотерична и мало изучена.
Если верить Василию Бояринцеву (сочинение под названием «Мы – хиппи»), складывается впечатление, что хиппи в основном пьют и вообще сильно смахивают на простую шпану. Если почитать Баяна Ширянова (что «Высший», что «Низший пилотаж»), то складывается впечатление, что хиппи в основном торчат. Можно решить, что в этом – отличие Первой и Второй-Третьей Системы, причем торчать, конечно, ближе к «оригиналу» и «идеалу». Бояринцев настаивает на некоей большей русскости и национальной ориентированности Первой Системы, со всеми вытекающими национальными предпочтениями, в отличие от гнилой Второй. Ширянову все эти национальные самобытности пофигу, как и вообще всякий пафос. Он демонстрирует наркотскую жизнь наркотскими же средствами, точнее, наркотски подготовленным состоянием сознания. И добивается фантастической адекватности.
И Бояринцев, и Ширянов, тем не менее, при всех различиях, описывают одних и тех же людей и один и тот же момент – появления и бытования Системы 70-х – 80-х. Объяснять, что такое Система, как на самом деле она жила – долго и непродуктивно. Движение существует уже так давно, что его именем можно назвать какую-нибудь улицу. В свое время нас свело вместе наше полное отсутствие в существующем тогда обществе, наше окончательное и принципиальное негражданство. Плюс – любовь к определенной музыке, которая сама была катализатором и наркотиком. Нижеследующее – просто воспоминание еще об одной не менее, если не более важной «составляющей» существования хиппи – путешествиях и, главное, путешествиях автостопом.
Человек рождается дважды, второй раз на дороге, – говорил Торо.
То, что люди всегда ездили на попутных машинах, – всем известно. Но лишь хиппи (в этой стране) превратили этот способ передвижения в некий символ, в краеугольный камень учения и существования. Путешествовать можно не только на маковые поля, тем более не только на аптечные помойки. Путешествие само – своеобразный кайф, чем подтверждает свою не столько омонимичность, сколько синонимичность с психоделическим значением этого слова, как бы автор ни был бездарен, доказывая сию идею.
Во всяком случае: еще один взгляд на «предмет». И в этом смысле, это еще и сентиментальное путешествие.
Часть 1. MEMORIA
памяти Поэта
“Не пора ли тебе в парикмахерскую”, – говорила мать уже в сотый раз за тот первый год моего институтского жития. Я попеременно злился и посмеивался над нелепой картиной, которую лелеяла мать в своей голове, решаясь сказать такую глупость. Что бы подумали мои лонгхаерастые приятели, если бы услышали этот граммофон домашней тирании, который я, как свободный человек, должен был давно сдать в утиль? У них-то дома, небось, не заикаются о волосах, уже умея прочувствовать пророческую миссию их обладателей. PacificПочтительная немота – вот какой реакции я ждал от публики, взирающей на участников нового детского крестового похода, перед абсолютным бесстрашием и безгрешностью которых отпрянут сарацины мракобесия. Естественно, ничего этого не было, хотя крестовый поход бесспорно был.
Таким же макаром я отправился в свой первый (неофитский) стоп, неизвестно каким образом допущенный родителями, коим очевидна была сильная сторона моего пребывания в институте, куда я поступал такими трудами – будто специально, чтобы потом тем более легко и с шумом оттуда вылететь, – и этой постоянной перспективой держать родителей в ожидательном напряжении, вынужденных все делать, чтобы не дать лавине сорваться и самим не подложить пороху в юношеский негативизм. Пока им казалось, что еще можно с чем-то мириться и они руководят ситуацией, просто не представляя реальных масштабов нависшей над ними катастрофы. Потеря института и армия были еще не самым страшным, хотя дальше этих мрачных пределов они, естественно, ничего вообразить не могли. В конце концов, на сегодняшний день они считали институт надежно уравновешенным жерновом армии и, зная мой характер, полагали всех нас взаимосвязанными общим интересом. Могли ли они вообразить, что их сын, с детства не отличающийся коварством, изобретет от армии иное противоядие, помимо института, и, прошмыгнув в пока неизвестную щель между одним и другим, – очутится на свободе? Что это за свобода, как и способ проникновения туда – они не могли себе представить.
А ларчик открывался просто: я отправился в свой первый стоп.
. . .
Волосы легли мне на сердце легко и естественно. Я полюбил длинные волосы с тех пор, как увидел смуглого Гойко Митича – благородного индейца моего детства, героя гэдээровских фильмов. А потом в прокате появились мушкетеры, тоже не лысые.
Поэтому ныне это было как возвращение к корням или осуществление мечты. Маломощный школьный рок-фанский хаерок дал обильные всходы.
Когда первого сентября я вошел в институтский дворик, то чуть не упал: вокруг вечно не работающего фонтана толпилось несколько десятков лонгхаерастых мэнов и затянутых в потертые джинсы хипповых герлов. “Америка!” – подумал я. Это был какой-то Вудсток в центре Москвы. А я-то думал, что опоздал на все ништяки, как всегда не тогда и не там родился, и одиночество в мире – мой удел. Несколько шагов – и жизнь сразу изменится! Не тут-то было: как хиппи я тогда себя не идентифицировал, лелея про себя роль одинокого философа, и невстреча растянулась бы на тысячу лет, если бы “америка” не сочла меня достойным и почти насильно не втащила бы в тусовку.
С этого момента мне надо было зарабатывать очки, то есть чем-то отличиться перед Системой. Самый надежный путь – безоглядно броситься в омут автостопа. И для будущего путешествия с Ритой на Кавказ мне тоже надо было увериться в собственной крутости, убить в себе раба быта и домашних пуфиков. Проверенный, говоря сильнее, паломнический путь вел в Прибалтику.
Я знал, как надо путешествовать автостопом: собиралась банда, человек десять, мэны с герлами, разбивались парам и растягивались на километр, потом все смитинговывались в условленном месте, тусовались и ехали вновь. Это было удобно и весело.
Я очень хотел бы поехать так, особенно первый раз, но я не мог ждать, пока соберется достойная компания.
Бог знает сколько времени я брел вдоль Можайского шоссе с самодельной холщовой сумочкой на длинном ремешке с вышитым на ней пацификом, где лежал атлас, книга и свитер, вынеся из разговоров, что в стоп ездят именно так, совершенно налегке, прежде чем решился повернуться и поднять руку. Грузовики шли мимо меня, не останавливаясь. Тем более легковушки. Я облегченно вздыхал и шел дальше. И вдруг скрип тормозов – красный КАМАЗ сворачивает на обочину: я заловил первый в моей жизни грузовик. Достойная рыбина! Прощай, Москва и крепкие объятия проложенных навсегда маршрутов, которые никогда не увезут тебя дальше конечной станции. Понесло ж меня от московского лета, кинофестиваля и друзей – в неизвестность, где я буду совершенно один, без крыши над головой, почти без денег, располагая всеми возможностями проверить свою карму и благосклонность судьбы. На раздумья времени уже не было.
Мое первое автостопное сиденье было не без прикола: у него отсутствовала спинка. Надо было сидеть прямо, все время напрягая спину, чтобы не улетать назад при каждом толчке.
Я и вообразить не мог, как тягостно и долго тянутся километры. После путешествий с родителями в комфортабельной легковой машине, грузовик казался телегой. И надо что-то думать про себя, говорить с водителем. У меня еще не было своих приключений, и я больше пересказывал то, что говорили мне друзья: почему автостопом и сколько нас по всему Союзу... Радостный и легкий шок сменился тупым утомлением. Пейзаж тянулся, почти не меняясь, сидеть в душной машине, подпрыгивая, как петух, на своей жердочке – это какая-то китайская пытка, спина немеет и реально болит.
Вообще, считается, что чем дольше едешь на одной машине, тем лучше, но я так умаялся, что серьезно хотел просить водителя остановиться и отпустить меня на волю. Откладывал с минуты на минуту и так дотащился до Смоленска. Вот тебе и крещение!
Да, ехал я на моем первом КАМАЗе долго. И все же до Смоленска добрался лишь к вечеру. Я прошел весь Смоленск, родину знаменитого Паши Смоленского, которого я ни разу в жизни не видел, но о котором неоднократно слышал и созерцал на фото в огромных “пипл-буках” моих новых друзей, увековечивших беззаконную жизнь поколения. (Волосатые любили фотографироваться, словно чувствовали, как это все непрочно, и спешили запечатлеть мгновение своей счастливой волосатости.)
Вероятно, Паша был единственным на весь город хиппарем: судя по напряженному вниманию ко мне стриженых аборигенов. Больше я ни одного не встретил. Да и не удивительно: настоящий хип не должен засиживаться на одном месте, перманентно колеся по совку – от стенки до стенки.
Город, начинавшийся не как все города, а как-то даже с крепостной стены, старинный, разностильный, с циклопическим зеленым собором, внушал почтение. На стене собора были упомянуты польские злодеяния седой старины. Я старательно разминал спину, оттягивая момент выхода на трассу, и так дооттягивался до темноты. Трасса опустела, и никто больше не брал. Я сошел с шоссе и долго бродил в темноте по улочкам и дворам какого-то смоленского пригорода, густо заросшего зеленью, и в конце концов прилег у чем-то понравившейся мне пятиэтажки на скамейку. Естественно, не спалось. Было и стремно, и холодно. Никогда в своей сравнительно благополучной жизни я не спал, как бродяга – на улице. Если меня и грело что-нибудь, то лишь страх осрамиться. Да и деваться было некуда.
Я поднялся с первыми лучами, проспав от силы пять минут. В ногах была рыхлость, в голове туман и резкость восприятия одновременно. Нервы взвинчены, в душе отчаянная целеустремленность.
Второй день пути дался легче. Я часто менял машины и не успевал застояться и закиснуть. Я стопил и трясся на бесплатном сиденье как заправский хайкер, все более деревенея задницей и тем самым успокаиваясь. Хайк был несложным и довольно увлекательным делом. Все время новые люди, свежие впечатления, смена картин. Попадаешь то на развилку, то на глухую обочину, то в большой город с циклопическим монументом на въезде. Подсознательно я запоминал виденное, чтобы потом рассказать.
Моя вторая ночь тоже была на улице. Улицей на этот раз была стоянка дальнобойщиков. Они поели, потрепались, помыли ноги и завалились в свои машины спать: на матрацы, под одеяла, задернув окна занавесочкой. Их комфорт показался мне недостижимым.
Я бродил один по пустеющей площадке. Глядел вокруг: для ночевки были на выбор – асфальт или лес. Ясно было: меня ждала еще одна холодная и бессонная ночь. Наконец-то я ощутил, как долго она тянется. В Москве, за чтением книг, ночь летела стрелой: ни почитать как следует, ни выспаться. Теперь я беспрерывно смотрел на часы и в темное небо – ожидая хоть малейшего просветления. Время словно застыло, а усталость и холод стали ужасны.
Не пожечь ли костер? Но лес был сыр, темен и холоден. Вместо костра я стал жечь сухой спирт. Это мало мне помогло. И все же смотреть на языки пламени было приятно, к тому же можно было чуть-чуть согреть руки. Но спирт странно быстро выгорал, а долгожданный рассвет где-то застрял: “Ты будешь солнца ждать – солнце не встанет...”
С отчаяния я стал вновь поднимать руку – и неожиданно застопил рафик, мчащийся в Минск. Счастью моему не было предела, однако в благодарность я стал бессовестно рубиться, то и дело ударяясь чайником в боковой стекло, моля Бога, чтобы не упасть на водителя.
. . .
Два года назад я уже побывал в Вильнюсе, на родительской машине. Теперь все выглядело несколько иначе. Без ночлега, с парой наколок, воспользоваться которыми у меня не хватало духу, передвигаясь по городу лишь на своих двоих. Но наш бог был милостлив. Сперва у какого-то кафе, звавшегося, вроде, «Вайва» и служившего, как оказалось, местом сбора местной тусовки, я был радостно приветствован стриженым парнем.
– Откуда!?
– Из Москвы.
– Ты из Системы?
Первый раз мне этот вопрос задали в московском метро пару лет назад какие-то молоденькие клюшки. Узнав, что “нет” – они сразу потеряли ко мне интерес. Про Систему я уже слышал, но что она из себя представляет, не имел ни малейшего понятия. Странно было вообразить, что в стране, тщательно искореняющей любое инакомыслие, может ужиться какая-то организованная оппозиция, существовать зона, пусть даже воображаемой, независимости, как бы глубоко она ни была законспирирована.
Никто не знал, как войти в Систему. Система находила тебя сама, и ты оказывался в ней, не делая никаких дополнительных телодвижений. Ты вдруг уже был завербован – с готовностью служить ей до костра включительно. Взамен ты обретал язык, друзей, адреса по всему совку и взаимовыручку. Теперь я мог признаться, что, хоть с недавних пор, но я тоже из Системы, что я не самозванец, что я знаю тех-то и тех-то и приехал сюда как положено стопом.
Это было сродни паролю, прохождению испытания.
– Юргис, или Юра, – представился новый знакомый. У литовцев тогда еще не было национальной гордости малых народов, и Москва для них, как и для всех прочих, кто в ней не жил, была не только средоточием маразма, но и авторитетным духовным центром.
– Тебе есть где найтать? – спросил меня Юра и предложил свой дом.
Он был безволосым неофитом-литовцем, который считал, что можно служить Системе и тайно, не выделяясь внешне из толпы. Для меня это казалось слишком хитро и беспринципно. И все же я был рад новому знакомому в чужом городе. Он мог хорошо поводить по местам, известным только местным. С ним были две местные девушки-хипповки, которые увязались за компанию.
– Пошли посмотрим Браму, – предложил они.
Я решил, что они хотят показать мне какое-то чудом сохранившееся (или самодельно заведшееся) изображение индийского бога. Ничего супернеожиданного в этом не было: Литва славилась своим политеизмом и отчетливой склонностью к индийским культам, особенно Кришны.
Но Брамой оказалась вполне православная икона Богородицы, выставленная в галерейке-мостике над старинной улицей. Однако все здесь крестились по-католически, двумя пальцами и приседая. Девушки-хипповки сделали то же самое. Икона сверкала “окладом” из сотен серебряных сердечек, маленьких и больших, прикрепленных, пришпиленных одно на другое, как чешуя, – наросшая многолетними стараниями верующих.
Некоторое время мы еще протусовались вместе. Чувствовалась иная ментальность. Наш опыт не был тождествен, поэтому интересно рассказать его другому было нелегко. Лишь несколько книг и то, что слушают в Москве, как это часто бывает, сделались темой разговора. Мы расстались, и я пошел гулять один.
Я шел, гордо размахивая хаером, как флагом, считая, что в Прибалтике отношение к волосам должно быть либеральнее, шокируя неврубчивых прохожих и сигнализируя друзьям.
И был вознагражден безошибочно узнаваемой фигурой с зачехленной гитарой за спиной. Это был настоящий хиппарь в компании несомненно хипповой клюшки. Не мог никого обмануть и тщательно спрятанный под куртку хаер, что 82-ом делали лишь олдовые волосатые, зашуганные, застреманные, уставшие эпатировать толпу и получать за это по заднице.
Сомневаюсь, поняли бы, например, американские хиппи, что значит “прятать хаер”. Смогут ли они представить ситуацию, когда хаера можно бояться или стыдиться, или действительно американские хиппи и наши волосатые – не одно и тоже? Неспроста наши хиппи предпочитают самообозначаться именно последним образом. Или что это за условия, которые могут даже волосатого заставить скрывать, как он хорош и красив!
– Привет, – сказал я. – Чего такая конспирация?
– Говорят, здесь стремно.
– Ничего стремного, – сказал я по-олдовому веско. – Я полгорода прошел.
– Ты откуда? – спросила девушка.
– Из Москвы. А вы?
– Тоже.
– “Поэт”, – по всей форме представился мэн. – Эту кликуху мне дали в школе. А цивильно Андрей.
Его девушку звали Оля. Она училась в том же колледже, что и я, но на курс младше. Поэт тоже был на год младше меня, но хаер имел длиннее.Сам он нигде не учился и в основном играл на гитаре.
Узнав, что я тоже чуть-чуть играю, он предложил мне тут же что-нибудь сбацать на улице. Самое эффектное, что я умел, был этюд Гомеса.
Взяв у меня гитару, Поэт стал петь, в частности, почему-то “Был у Христа-младенца сад...”. Он был “Поэт”, он был музыкант, мне же пришлось признаться, что кроме крутого имиджа никаких регалий у меня еще не было.
Но они стремительно обретались: не успев закончить концерт, мы были заловлены ментами.
Как потом выяснилось, в этот вечер полис просто недовыполнил план по сбору клиентов. Поэт же был “поэтом”, то есть существом ранимым: ему страсть как не хотелось расставаться с хаером, а то, что в ментах стригут, мы оба уже хорошо знали.
Для меня это были не первые менты. Еще за год до этого я был заловлен на Самотеке во время облавы на пластиночную фарцу, полубратьев по духу. Самое смешное, что я просто шел из колледжа мимо толпы, и пластинок у меня не было. Так что меня замели исключительно за хаер. Зато и провел я в ментах целый день, бунтуя и добиваясь справедливости – то бишь возможности позвонить домой (моя мама – человек очень нервный). Фарцу, что попалась со мной, уже отпустили. Даже того замороченного парня с большой сумкой, что все трясся за свой драгоценный конфискованный винил:
– Есть менты, – говорил он мне, – что вот так собирают хорошие коллекции... или, бывает, вернут дисок, а перед этим проведут по нему гвоздем, у тебя на глазах, и смотрят, суки... (Я хорошо мог представить эту муку: гибель наиценнейшей в жизни вещи, даже если ты принес ее поменять на другую наиценнейшую вещь, к тому же реально приближающуюся по деньгам на комке к среднемесячной зарплате).
Менты некоторое время терпели, как я маячу по комнате, врываюсь в какие-то непредназначенные для меня двери, требую чего-то и топаю ногами, потом кинули в большую клетку, находящуюся в той же комнате, именуемую у них КПЗ, где на мои выкрутасы с изумлением взирало несколько бомжеподобных людей пиратской наружности, но смирного нрава, а потом отвели к начальнику отделения, который долго и хмуро со мной беседовал, а потом сказал, что, не будь он в форме, с удовольствием дал бы мне п...ы. Хорошо, что мой новый комковый приятель позвонил мне домой. Родители явились до того, как мне впаяли сутки.
Поэтому теперь я воспринимал происходящее как должное, нагло, хоть и за глаза, стебаясь над ментами, подбадривая своих новых друзей, постоянно напоминая и тем и другим, что задержать они нас могут не более, чем на три часа.
Ближе к ночи нас выпустили, так и не найдя ни в нашем поведении, ни в наших вещах достаточно надежной крамолы. Мы много чего обсудили в течение тех нескольких часов, что пробыли вместе. Кто знал, что это знакомство растянется на семнадцать лет...
Поэт и Оля поехали на вокзал, от стрема подальше (это было их “свадебное” путешествие), я – к Юре.
Юра жил с родителями в собственном двухэтажном особняке в черте города, непонятно как допущенном советской уравниловкой. У Юры была своя комната, полная постеров и музыки. О музыке мы с ним и говорили остаток ночи.
А утром я сорвался в Каунас, где вовсе никогда не был, но имел много чужих друзей.
Это маленький милый город с замечательно сохранившимися католическими соборами. Тогда мы были чище и правильней и не делили людей и камни по конфессиям: они были в вере, они свидетельствовали о Боге – этого было достаточно. Подчиняясь все той же религиозной терпимости и щепетильности, даже новодел в Каунасе был сработан под старину.
В Каунасе у меня была бездна наколок, и на этот раз я смело пошел по флэтам. Римас жил в новом блочном районе, нище и весело. По ночам он с приятелями собирал бычки на улицах, днем мы тусовались по городу. Оббегать все храмы, музеи, побывать на всех просмотрах, премьерах, зайти во все книжные – это было обязательной программой для всякого вновь прибывшего. Ну и поговорить попутно на актуальнейшие темы, например, что арии вышли из Литвы. Римас доказывал это на примере языка. Совершенно добровольно он занялся лингвистическим анализом и нашел много общего у санскрита и литовского. Этот факт его очень грел.
У нас не было денег даже на кофе, но нас это мало волновало. Какой-нибудь чай, какая-нибудь булка в похожем на западное кафе – подходящий бензин для наших дешевых двигателей. Другим горючим были красные маковые поля. Здесь у Римаса я уже не в первый раз созерцал домашние химические эксперименты, как белое молочко нехитрым способом превращается в нечто абсолютно черное, что хладнокровно загоняли в многострадальную вену.
– Я уже в ногу колю, – объяснял мне один кид. – Так и стрема меньше, если менты будут смотреть.
А смотреть было на что: трубы его были как решето: воспаленный млечный путь, ручьи розоватой сыпи с ног до головы.
Наркоманы были людьми доброжелательными и щедрыми:
– Хочешь вмазаться?
– Нет, спасибо.
Пипла было немного: часть его давно отправилась на общесоюзный дербан в Среднюю Азию, часть – на Гаую. Гауя была и моей целью, и, не дожидаясь попутчика, я вновь рванул на трассу.
Латыши как и литовцы брали удивительно охотно, и, что самое странное, – частники. Впрочем, один дальнобойщик на мое “спасибо” посмел сказать, что “спасибом” сыт не будешь и нет ли у меня еще чего-нибудь? Чего-нибудь у меня как раз не было.
Я снова, как два года назад, прошелся по Риге, заглянул в какие-то костелы и книжные, вспомнил, как слушал с родителями орган в Домском соборе (все это казалось – так давно), вполне приличный мальчик, отдающий дань культуре, и – поехал на Гаую.
Было не по-прибалтийски тепло, светило солнце, уже намыливаясь сесть в огороды. В примыкавшем к станции поселке я встретил нескольких волосатых. На Гауе стремно, сказали они, винтилово, все разбежались.
Мы решили перенайтать в каком-нибудь укромном углу ближайшего садоводческого товарищества и завтра попытаться вернуться в лагерь. Мы легко нашли пустой гостеприимный сарай, будто специально для нас приготовленный, аккуратно вынули стекло и забрались внутрь. Ближе к ночи в наш сарай влез еще один волосатый. Это был Паша Смоленский собственной персоной.
Паша был вундеркинд трепа. Он мог часами тележить о жизни, веселя собравшихся бесчисленными приколами, щедро отпущенными ищущему:
– У меня на бывшей работе было собрание... И они там постановили, что я “выпал из действительности” прямиком во “внутреннюю эмиграцию”, – простодушно угорал он.
Был забавен его наивный американизм, его полная неотождествляемость ни с чем по эту сторону Занавеса.
В неизменно веселом настроении, с готовой телегой на языке, невозмутимый и легкий – в нем было что-то от юродивого. Но нам было все равно. Презренная буква “х” в начале слова стала нами страстно любима.
Потом Паша взял гитару и запел. То же что-то юродивое, частушечное – в стиле рок.
Утром я на Гаую не поехал, как ни звали меня волосатые. Я вдруг понял, что не успеваю вернуться к обещанному Рите сроку. Ретивое во мне взыграло – и я рванул в Москву.
. . .
Волосатая идея давно бы обанкротилась, коренись она в чем-нибудь, кроме волос. Уж очень эффектно и независимо выглядит молодой волосатый мэн в потертых джинсах и разноцветном бисере летом у пивного ларька. Нашему театру нужны выразительные актеры. Он играет исключительную роль – человека, который выше суеверий.
Бытует суеверие, что длинные волосы – аксессуар исключительно женский. А у него волосы хоть до задницы. Бытует суеверие, что неприлично ходить в грязной и рваной одежде, а у него от количества заплат выигрывает достоинство джинс. Если бы было запрещено поносить Бога, он неизбежно запихал бы Его изображение в сортир, как это постигло местных политических идолов. Но так как в этой стране все по-другому, и о религии долгое время кроме как скрипя зубами говорить возбранялось, то пристрастие здешних волосатых к предметам культа стало наконец превышать нормальный несуеверный интерес, что само по себе есть следствие отсутствия культа LSD.
Впрочем, может быть, это есть следствие национального интереса к нравственности и наш традиционный логоцентризм.
. . .
...Выезжая из Риги, я взял не то направление и устремился в Москву по старому шоссе, по которому уже почти не ходили машины. Я долго брел по пустому раскаленному асфальту, пока не нагнал двух герлиц. Эти тоже путешествовали стопом, первый раз, как и я. Мы пошли вместе. Наконец остановился грузовик. Я уступил места девушкам и остался на трассе один.
Через довольно значительное время повезло и мне: я вписался в зеленый УАЗ. Но вез меня он не долго. Остановившись на заправке, он почему-то заглох. Я немного подождал, глядя как водитель безуспешно возвращает машину к жизни, и, извинившись, сказал, что очень спешу и пойду попробую еще половить.
Водитель починился раньше, чем я добился какого-нибудь прогресса. Я все же малодушно поднял руку, ни капли не обидевшись, когда он проехал мимо, понимая, что по-своему предал его.
В довершение всего меня сняли с трассы менты. Посадили в машину, повезли куда-то в глубь страны в отделение. Я сразу решил, что самое умное – не нервничать. Я знал, чем это пахнет: спецприемником и хайранием. А мой новенький отросший хаер был мне очень дорог.
Менты велели засучить рукава и проверили веняки. Вывалили содержимое сумки. То, что у меня был паспорт с московской пропиской кое-что, конечно, значило, не так уж и много. Гораздо важнее был мой студбилет – цивильная привязка. Я мог доказать, что я не бродяга, а езжу стопом из экономии. Менты меня старательно пугали, одновременно стремясь сбыть с рук – на дурачка, который бы мною занялся, например, отправил бы в спецприемник или наркодиспансер, но такой не сыскивался, и я оставался в томительной неизвестности. Здесь, в захолустном поселке, я вел себя тише, чем в Москве или Вильнюсе, не апеллируя к правам человека, не топая ногами, понимая, что нахожусь в полной ментовской власти. Запхают в этой глухомани куда-нибудь – и как камень в воду: никто обо мне больше не услышит. Когда я достаточно намозолил им глаза, ни на секунду не отступив от роли: покорность и невозмутимость, – один мент спросил другого:
– Ну, что с ним делать? В карцер посадить?
Второй мент молчал, читая газету. Я чувствовал себя вещью на невольничьем рынке. Этой реакции, скорее всего, они и добивались.
– Да бог с ним, – наконец подал голос товарищ. – Отпусти.
Я вышел на улицу, в неизвестном поселке, неизвестно где от трассы. Но очень быстро я поймал грузовик, что шел в сторону шоссе, и скоро опять шагал по горячему асфальту, медленно приближаясь к Москве.
Я действительно очень спешил. В Москве меня ждала Рита, которой я обещал стоп на Кавказ. Первый мой личный стоп с девушкой, из которого могли произойти важные последствия. И я должен был выдержать первое испытание: прийти на стрелку в срок.
К вечеру я добрался до какого-то переезда на границе Латвии и Белоруссии. Вокруг не было никакого жилья, кроме трех домов и будки стрелочника. Я постучался в пару домов и попросился переночевать. На меня посмотрели странно, словно я говорил на неизвестном языке, и отказали.
За переездом в поле стояло несколько накрытых навесом стожков. Выбирать не приходилось. Я закопался внутрь сена, оставив только нос, чтобы дышать.
Я лежал в стоге сена, слушал комаров и перемогал сильную усталость, и не мог заснуть. Я был на таком взводе, что почти не чувствовал странности моего положения. Было невозможно вернуться в Москву – это скверно. Но, даже если бы я сдрейфил – это бы не перенесло меня ближе к цели. Первый облом после такого удачного стопа по Прибалтике, встречи с Пашей Смоленским и прочим волосатым пиплом, после практической, а не снисходительно-домашней инициации, когда я почувствовал себя на что-то способным! Я уже проехал какой-то путь на машинах, причем один. Я не только выглядел, как хиппи, я и жил, как хиппи. Я аж дважды попался ментам. Я, который прежде падал в обморок от вида деревенского нужника и от любого ветерка валился с ног в постель с температурой – ночевал в голом поле под звездами. И теперь я мог трепаться о своем опыте и о том, как лихо себя вел. Сломаться мне теперь было не с руки. Все только начиналось. И мне страшно везло, кроме этого досадного шоссе...
На следующий день я последовательно попал сперва в Новополоцк, современный химический промышленный монстр, а потом в Полоцк. Эти два города вызвали во мне приступы аллергии. Их хотелось забыть и никогда не приближаться к ним ближе линии горизонта. Все самое худшее, что бывает в современном городе, скопилось в них с какой-то монструозной полнотой, только в Полоцке в сталинском, а в Новополоцке в хрущевско-брежневском исполнении. Глухие бетонные коробки, бесцельно и щедро разбросанные по огромному пространству, словно живут в них стрижи, голый асфальт, пыльные чахлые вытоптанные газончики, отсутствие всякой структуры, лица – и было лицом этих городов, лицом по-своему незабываемым.
Впрочем, Витебск, в который я скоро попал, видимо, сильно изменившийся с шагаловских времен, тоже ничем выдающимся не поразил. В отличие от Новополоцка в нем был какой-то спасительный рельеф, накинутый на деревенскую захолустность с вкраплениями ничтожной современности: слепой безносый куб административных зданий – и заборы...
Вообще, Советская страна напоминала мне попытку засунуть огромный ящик в маленькую сумку. Ящик нещадно бьют, ломают, прыгают сверху ногами... Сумка тоже трещит – ее штопают проволокой и накладывают заплаты из ржавого железа.
...Заночевал я снова в Смоленске, на этот раз на вокзале, вырубившись после бессонных ночей, и меня кинули во сне на все деньги. Пропал тогда и студбилет. На следующий день, четырнадцатого августа, я был в Москве, сидел свежевымытый на кухне и трескал пироги с вареньем.
Родной город радовался не долго: утром я вновь его покинул, на этот раз на электричке.
Мое внезапное появление на пороге кучинского дома возымело должное удивление.
– Мы уже не ждали, что ты приедешь, – сказала мне Ирка, ритина, жившая здесь с нею, подруга.
– Да, – подтвердила Рита, – я много раз говорила Ирке: вот все мужики такие – наобещают с три короба, а потом динамят. Вообще-то, это было некрасиво с твоей стороны – уезжать.
– Почему? Я же вернулся в срок.
– Ну, во-первых, ты заставил нервничать, а во-вторых, если ты хотел ехать со мной, зачем тебе было так срочно срываться в Прибалтику?
– Мне хотелось попробовать себя. Узнать, что такое стоп.
– Ну и как?
– Клево!
. . .
В этом “романе” будет много несвоевременных отступлений (“размышлений”), в которых, по-видимому, уже я должен продемонстрировать себя как героя (потому что взвалить ответственность за них (отступления) на бумажные плечи героя мнимого у меня не хватит литературной наглости (или наивности). Пусть герой говорит от себя, а я – от себя, мы друг другу не мешаем). Поэтому все же возникает этот как бы нежелательный для меня диалог автора с читателем, в котором я попросту отказываюсь от литературной условности и буду говорить о вещах, как они есть. Я сам не люблю это смешение стилей: беллетристики и научной статьи, беллетристики и лекции, диспута, сведения счетов с кем-то невидимым, не имеющим отношения к повествованию, но тем не менее перетягивающим на себя все смысловые одеяла. Хочу оговориться: это произведение раннее, незрелое, экспериментальное. В нем автор не хочет скрывать, сколько ему лет, какое у него образование, и какое у него самого отношение к тому, что он описывает. В конце концов, начинающему автору надо обладать некоей спасительной близорукостью к своим недостаткам и, одновременно, к размерам той пропасти, которая отделяет его от места в президиуме, где сидят лауреаты госпремий. Иначе он никогда не решится писать (или обнародовать написанное). С другой стороны, гению от природы объяснять ничего не надо: он и без всякого поощрения схватит зубами тот кусок пирога, который ему предназначен.
. . .
Надо сделать одно признание: в свои почти двадцать лет я был все еще девственник. С этим реакционным пережитком надо было кончать.
Стопанутая нами под Москвой “Татра” имела всего одно сидение, поэтому Рита всю дорогу провела у меня на коленях, отчего мы не стали относиться друг к другу хуже, что уже было хорошим предзнаменованием. Ночевали мы в этой же машине, в дырке от любезно вынутого шофером сиденья. Но мы были худы и неприхотливы. Поджав ноги, обнявшись, кое-как мы провели ночь, целомудренно, как брат с сестрой. Зато и водитель довез нас до Краснодара, почти до самого моря.
И вот передо мной Черное море, когда-то столь любимое. В хмурый прохладный день мы вылезли из попутной машины, достигнув естественного предела всех дорог, достигнув моря, как Колумб Америки. Нас встретили мутные валы, набегающие на берег, влажный и прохладный воздух и персики по два рубля штука на лотках наглых кавказских людей. Все, что мы могли себе позволить, это маленькая дыня.
Ночью мы были уже в Геленджике, хорошо памятном мне по пионерскому лагерю десятилетней давности. Но город был мне незнаком: нас никогда не выпускали за ограду, и все наши тайные вылазки были в основном в сторону моря, так как в город идти было и стремно и бессмысленно: денег у нас не было.
В том детском Геленджике в нескольких улицах от нашего лагеря был крутой прибрежный обрыв и острая скала, напоминающая крымскую. Под этой скалой над темно-синими бездонными ямами мы беззаконно и весело купались.
О, это было нечто совсем другое, чем купаться в мелкой, грязной огороженной луже между двумя волноломами, куда нас водили поотрядно днем, пренебрегая окриками вожатых не нырять и немедленно идти на берег. Тогда я познал радость свободы и то, что настоящее в этой жизни существует, и завоевать его можно только через бунт.
Теперь мы с Ритой гордо шли по темному и незнакомому городу, имея право и игнорируя возможность купаться где хотим, занятые проблемой, где бы перенайтать.
Мы выбрали темный подъезд в почти московской пятиэтажке, постелили на кафель плед и улеглись. Но не успели заснуть, как через нас стали ходить люди. Они делали это тактично, высоко поднимая ноги, показывая определенную выучку, но нас это мало утешало.
Мы сделали самое простое: пошли на пляж. Поставили рядом два лежака, бросили рюкзак с дыней в ноги и, крепко обнявшись, безмятежно заснули, обвеваемые соленым ветром.
Раним утром, едва рассвело, я был разбужен ритиным криком: огромная белая чайка кусала ее за вылезший из под пледа беззащитный палец. В довершение мы не нашли ни рюкзака, ни дыни. Погода все еще была хмурая, но спать нам совсем расхотелось.
На трассе нам снова стало везти.
– Брат и сестра? – спросил первый же частник.
– Нет, – засмеялись мы.
– А очень похожи... – Это тоже было неплохим предзнаменованием.
В Сочи мы пошли к моей знакомой Марье Андреевне. Множество раз в течение тринадцати лет, с тех пор как я первый раз попал в этот славный городок, мы снимали у нее угол. Увидев меня, она переменилась в лице и заспешила уведомить, что дом переполнен. Если бы не предварительная договоренность и не большая взаимовыгодная дружба с моими родителями, похоже, она оставила бы нас на улице. Квартира и правда была перегружена жильцами, меня кинули в компанию к какому-то мужику из Питера, Риту – на балкон, в общество мамы и ее великовозрастной дочки, чуть ли не из Мурманска. На этом балконе и состоялись наши первые и откровенные нежности.
Во время обеда дочка стала излагать новую лечебную теорию.
– Надо все время двигаться. Все здоровье в движении. Вот собаки бегают и никогда не болеют.
– Мы не собаки, – сказал я мудрость.
Теория движения была мне близка, но в философском, а не в оздоровительном аспекте. К тому же не из уст этой благополучной и пышущей здоровьем фифы.
Фифа обиделась и замолчала.
Я водил Риту по любимому городу, на знакомый городской пляж, где мы в персональном загончике из английского Сэлинджера высокомерно спрятались от толпы, и в дендро- и Луно-парки, где мы крутились, как дети, в центрифуге, по Платановой аллее и, наконец, к ночному морю, где мы целовались и купались голяком.
Мы сидели на камнях, тесно обнявшись, будто греясь.
– Что же теперь мы будем делать? – спросил я, словно случилось такое, после чего требуются специальные объяснения.
– А ты как думаешь? – спросила в ответ Рита.
Это был наш брачный договор.
На следующее утро мы двинулись дальше по красивой прибрежной дороге – к грузинской границе.
Стоп на серпантине под южным солнцем, забитые машинами бензоколонки, где тормозились наши водители, и редкие несъедобные кафе – при других обстоятельствах это могло показаться геморроем. Но в моем распоряжении всегда было море, щедро наброшенное на весь горизонт, как шикарная драпировка на нищей стене, рябившее и манящее под незаходящим солнцем. Запах этого моря, горных сосен, акаций и случайных диких кипарисов, а еще Рита, мужественно бредущая рядом – кажется, я первый раз в жизни был счастлив. Над этими морскими обрывами были похерены все мои любовные трагедии, казавшиеся незабываемыми и страшными великанами.
Как бы медленно мы ни ехали, дожидаясь редких грузовиков или редкой любезности частников, как бы ни жгло солнце, ничто не смело омрачить пути. Я хорошо был приучен к жаре, мое хилое тело приветствовало ее, как старое проверенное лекарство. А картина одна лучше другой открывалась медленному пешеходному взору.
К вечеру мы были в Новом Афоне. На стене переговорного пункта нарисовали пацифик: пусть братья вспомнят своих, а враги скрипят зубами. “У поэта нет врагов”, – сказал Бальмонт. Мы тоже предпочитали обходиться без врагов, и, однако, для многих оказывались врагами, сами того не желая. Это было с очевидностью доказано в тот же вечер.
Знаменитые Новоафонские пещеры были уже закрыты. Мы прошли мимо монастыря, превращенного в санаторий, все выше в горы. Когда мы дошли до какой-то деревни, стало совсем темно. Тут нам попался местный парень, споро бегущий сверху по улице. Без околичностей он пригласил нас к себе. Назовем его Георгий.
Во дворе его дома вокруг уставленного яствами стола бурлил пир: к Георгию приехал его друг, недавно вернувшийся из Афганистана. Во главе стола сидели старики-родители, настоящие горские аксакалы, и немногочисленные соседи.
Нас тоже усадили за стол. К немалому для хозяев сожалению, мы почти ничего не ели, во всяком случае то, что у них называлось едой, то бишь мясо, и практически ничего не пили.
За столом афганец задавал тон. Он с упоением рассказывал про прелести и ужасы войны (прелести – это солдатская дружба и взаимовыручка, проверка себя в тяжелых условиях и растущее к себе уважение; ужасы – что твоих товарищей убивают). Я многое могу терпеть, но только не рассказы о “хорошей войне”. Парень между тем рассказал, как о приколе, как он лично поставил к стенке и расстрелял одиннадцать жителей захваченного ими кишлака, не разбирая, кто перед ним. Потом выяснилось, что среди расстрелянных оказался местный коммунист, единственный на весь кишлак, к тому же наш агент. За это его посадили на гауптвахту, но потом простили. Он говорил это совершенно спокойно, без капли сожаления: что ему там какой-то местный коммунист: чурка – он чурка и есть: прислуживает тем и другим. Собравшиеся хранили почтительную немоту.
– По-моему, этим нечего хвастаться, – сказал я довольно тихо.
– Чем хвастаться?
– Тем, что ты рассказал.
– А я не хвастаюсь! Я говорю, как было. Я ни секунды об этом не жалею.
– Очень плохо.
– Что плохо?
– По-моему, дурно убивать людей.
– Людей? Они убивали моих товарищей! – вскричал парень.
– На войне всегда убивают, – сказал понимающе кто-то из гостей.
– Может быть, не стоило идти в Афганистан? – спросила Рита.
– Не нам решать, партия сказала, – мрачно рекли аксакалы.
– Война – это, конечно, плохо, – сказала мать Георгия. – Но надо защищать родину.
– На нас никто не нападал, – уточнил я.
– Не нападал! Мы воевали, а ты здесь отсиживался. И еще рассказывать будешь! – огрызнулся афганец.
– Я говорю то, что думаю. Надеюсь, мне не запрещено иметь свое мнение?
– Мнение? Какое мнение?! Ты в армии-то служил? – грубо спросил он.
Я сказал, что не служил и не собираюсь.
– Почему? – это заинтересовало всех.
– Не хочу, чтобы из меня делали убийцу, не хочу никого убивать.
– Ах не хочешь! А когда тебя самого будут убивать! Что ты будешь делать?!
– Я предпочел бы умереть сам, чем убивать других.
Это были азы нашего учения. Война, кровавая свалка может показаться нормальной только бестолковым, бездарным людям, которые не могут унять тоску своей душной ординарной жизни. Их культура, их духовный уровень не позволяют разрешить конфликт другим способом. Единственная реакция на возникающую проблему – агрессия. Им не знаком путь борения, напряженной войны с самим собой, критическое покровительство очистительных идеалов. Война – это затянувшиеся каникулы (по Т. Манну), на которые люди отправляются с легким сердцем, потому что им “нечего терять”.
– Будешь, когда пошлют! – заверил меня афганец.
– Не пошлют.
– Заставят!
– Не заставят!
– А мы зачем туда шли и гибли, как козлы?! Из-за таких же, как ты, и гибли! – патетически рек афганец.
– Я вас об этом не просил! – орал в ответ уже я, забыв о всяких приличиях.
– Таких, как ты, паразитов, убивать надо. Ты позоришь страну!
– Ты сам ее позоришь!
– Ах ты сука! – Парень уже выходил из-за стола, чтобы накрахмалить мне фейс.
– Можешь меня бить, я тебя не боюсь! – неустрашимо выкрикивал я, тоже уже стоя.
Его остановили хозяева, вновь усадили за стол. Но праздник был испорчен.
Нас отвели в отдельный домик, указали кровати, а напоследок попросили паспорта.
– Надо вызвать милицию, – бурлили в темном саду гортанные голоса. – Не выпускайте их. Пусть там разбираются, кто они такие!
Кажется, нас серьезно принимали за шпионов.
– Поздно уже, – отвечал старик, хозяин дома. – Утром съезжу на мотоцикле.
Нас оставили одних, предупредив, чтобы лучше мы не пробовали сбежать. Аллюзии на Пушкина или Толстого нам в голову не приходили: нам было не до того. В окружающей наши постели темноте я вдруг почувствовал, что роль мужественного и пламенного пацифиста стерла последние разделяющие нас сантиметры. Это была первая ночь, которую мы, вполне в традиции “Make love, not war”, провели в одной постели. Сотни раз я переживал это во сне или мечтах – первый раз это было реально: вдруг я очутился между женских ног. Женщина раскрылась передо мной, словно раковина, обнажив беззащитную сердцевину. И так же беззащитно и абсолютно покорно я вошел в нее, как всходят на эшафот, и умер, и смерть была как спасение от неминуемой гибели, как достижение последних пределов бытия. Я понял, что умирающие после любви пауки или лососи не так уж не правы – ибо что же лучше этого может ожидать нас в жизни?
Чуть рассвело, нас разбудила женщина, мать Георгия, вернула паспорта и предложила убираться по добру по здорову, пока не вернулся с милицией старик.
Мы шли вниз, обнявшись, идти было легко, но мои мысли были далеко. Мысли Риты тоже витали не здесь.
Первое, что я услышал после проведенной с нею ночи, было:
– Ненавижу школьную форму!
– С какой стати это тебя волнует?
– Просто ненавижу, как факт. Почему нас заставляли ее носить?
– Ну, я думаю, для ясности. А то идет хлопец по улице, и не понятно – прогульщик он или нет, и нельзя отодрать за уши.
Рита думает о чем-то своем.
– В природе есть защитная окраска, а у нас наоборот – беззащитная... – говорит она.
Я думал о том, что хиппи намеренно ставят себя на острие событий, чтобы защититься от обывательщины жизни. Будь их вид “приемлем”, борцы с мировой ложью оказались бы в достаточно гнилой атмосфере терпимости, где суть и настроение общества были бы затемнены. Но они последовательно обрывают связи, и это дает агентам исключительное, напряженное и давно желанное бытие, где хоть в принципиальном нет фальши – у прошедших через горнило каждодневных столкновений и проверок на вшивость. Невзначай мы становились героями, и за это нас любили женщины.
Скоро мы были на трассе.
Город Сухуми обрадовал меня: двухэтажные старинные дома “колониального” стиля, узкие улицы, сколько ни едешь, не видишь башен и площадей с торчащим бронзовым “непьющим”. Так и ждешь, что сейчас из-за угла появится запряженная пролетка... Не знаю, что осталось от него после последней войны: говорят, его здорово размолотили.
Заловленный под Сухуми частник предложил нам ехать в Тбилиси. В Тбилиси хотелось, хоть там нас никто не ждал. Мы отказались, сославшись на нехватку времени.
На развилке около Теклати Рита наконец возмутилась и сказала, что хочет есть. Мы пошли посмотреть виноград на маленьком импровизированном рынке. Рядом остановился автобус:
– Дэвушки, садытэс к нам! – закричали веселые грузины из окон и дверей.
Мы не стали спорить и послушно сели. Это были торговцы овощами и фруктами, возвращающиеся домой. Простые бесхитростные люди, они еще долго заблуждались насчет моего пола (в то время на моем лице было мало растительности). Пришлось их разочаровать. Несчастные грузины не хотели верить в такую неудачу: и не две девушки, а одна, да и та занята.
Дальше мы тряслись среди ящиков с овощами под их гортанные речи, отвечая на редкие вопросы. В конце концов о нас просто забыли, что было нам на руку: никогда не знаешь, что ожидать от детей гор. Ближе к Батуми интерес к нам воскрес опять:
– Поехали ко мне в Кобулети! – зазывал один грузин. – У меня свой дом. Таким виноградом угощу – никогда не ели! А какой шашлык будет – аа! – в Москве такой не найдете!
– Да что твой дом, дыра! Пусть едет ко мне. У меня будет жить, как цари. Без денег. Рядом море!..
– Ва, что говоришь, Вано! Мой дом – дыра! Мой дом лучше твоего!..
Казалось, мы на аукционе, где нас и покупали, где мы же и присуждали победу.
Но от всех этих соблазнительных предложений мы отказались. Наша цель была Батуми, последний город на берегу перед иностранной границей.
Не без труда мы нашли в Батуми проспект Сталина, вероятно, последний проспект этого тирана на территории совка. Здесь нас ждал Муртаз, старый приятель моих родителей. Нас радушно приняли, как это могут делать лишь грузины, накормили, дали вина и отпустили гулять. Никому не было дела, во всяком случае по виду, до моих волос. Я был старый знакомый, сын друзей – и этим все было сказано. Грузинским гостеприимством мы были обеспечены.
День был удушливо жарким.
– Жарко не холодно, – утешал я Риту, пока мы брели через Парк пионеров к морю.– Когда холодно, можно одеться.
– А когда жарко, можно искупаться.
Городской пляж зрелище малоприятное, не сильно соответствующее моей теперешней гордыне. Дикие горы и камни, среди которых мы купались по дороге, были куда как сподручнее. Там мы никого не раздражали своим видом. И нас никто не раздражал. Впрочем, количество людей на батумском пляже было умеренно-малым против сочинского. Однако и из такого прилюдного моря вылезать было тяжко.
– Aqualang my friend, – пропел я, выходя из воды, с тоской глядя в сторону турецкой границы.
А Рита из без акваланга упилила так далеко, что я уже не мог разглядеть ее с берега.
– Девушка, отплывите от винта, это опасно, отплывите от винта! – услышал я крик в мегафон с борта далекого корабля.
– Если бы я знала, где этот чертов винт, чтобы от него отплыть! – жаловалась Рита уже на берегу. – Я стала метаться, они орут на меня... Вообще, я хорошо плаваю, в детстве запросто Оку переплывала... А тут со мной началась паника, да и откуда я приплыла, не могу понять.
Блажь купания скоро улетучилась. От жары Рита совсем расклеилась. Она сомкнула пряди волос на лице, словно закрыла шторками – от солнца, и так шла до дома, опираясь на верную руку собаки-поводыря. В подъезде я от избытка чувств донес ее на руках до пятого этажа.
Дома нас снова ждала еда, вино, взрослые муртазовы дети и соседи, специально прибывшие посмотреть на нас. Вечером нас оставили в покое, велели отдыхать. Мы с удобством сели на диван и стали вдвоем читать только что изданную книгу Нахова “Философия киников”: “Лучше с горсткой честных людей сражаться против всех дурных, чем со всеми дурными против горстки честных”... Не знаю, как в этой замшелой стране могла быть напечатана такая крамольная мысль! Ее можно было сравнить разве что с откровениями из “Уолдена” Торо.
Следующий день был теплым, но хмурым, солнце не проглядывало сквозь тучи.
С утра Рита сказала, что ей нужна аптека.
Батуми симпатичный городок. Здесь есть совершенно восточные районы и помпезный сталинский совок. Самой новой архитектуры нет – и это его сильно украшает. Изучить его можно за один день, но найти в нем что-нибудь довольно трудно. А в аптеках, естественно, трудно найти то, что нужно.
Поэтому мы просто бродили по городу, довольно скромно обставленному курортной эстетикой. Поиски аптек вносили в наши перемещения дополнительную хаотичность и непредсказуемость. По пути к новой аптеке нас затормозили менты. То есть это мы подошли к ним – с вопросом все о той же аптеке.
Давненько я не испытывал такого хамства и бессилия. В отделении, гнусном темном полуподвале, куда они предложили нам пройти, менты откровенно издевались надо мной, обещали бросить на пятнадцать суток за бродяжничество, попрошайничество и нарушение паспортного режима , и грозно щелкали ножницами. Рита спросила: видели ли они, что мы попрошайничаем? «Ну, значит, воруете», – нашелся мент. Другой молодой мент без обиняков сказал, что трахнул бы меня, только форма мешает.
– Как вы смеете так разговаривать с нами! – возмутилась Рита.
– Не кричи, тут тебе не Москва!
Промурыжив два часа, они все же разрешили мне позвонить Муртазу. Он немедленно примчался с нашими паспортами. Он был в сильной тревоге. Минут десять грузины орали друг на друга на местном наречии – и мы были на свободе.
– Я не знал, что такое может быть, никогда такого не было! – переживал Муртаз всю дорогу. – Мы кушать сделали, ждем вас, ждем, думаем, что с вами случилось! Город такой, куча проходимцев, все может быть!
– Не волнуйтесь, мы к этому привыкли, – отшучиваюсь я.
– Нет, это безобразие! Ни за что хватают людей! Подумаешь, длинные волосы!.. Что ж, человеку и ходить нельзя!
Дома нас ждало повторение рассказа и новое всеобщее сокрушение.
Следующий день был снова жарок и первый наш путь опять лежал к морю.
Но Рита отказалась купаться.
– Почему? – спросил я.
Tак я впервые услышал о специфической женской конструкции. Я скептически пожал плечами.
– Неужели ты ничего об этом не знал? – Рита изумилась моей наивности не меньше меня.
– Ничего.
– Ну, ты же книжки читаешь. Ведь об этом тысячу раз написано!
– Да где?!
– Ну, ты помнишь в “Иосифе и его братьях”?
– Я не читал.
– Ну, это и в Библии есть. Как Рахиль похитила богов...
Вместо моря мы стали ходить по прибрежному парку, от нечего делать пошли на концерт на открытой эстраде: какие-то лабухи исполняли песни “Битлз”. Довольно сносно пели на английском, хорошо имитируя и тембр, и манеру дергать струны. Сами того не ожидая, мы словили кайф.
После концерта нас окружили местные парубки. Но драки не произошло. Им просто интересно было, откуда мы и почему такие? Пижонисто одетые, как и большинство грузин, они были страшно некомпетентны в области современных идей. Так и шли за нами до дома толпой. “Наша свита”, – ухмылялись мы.
Если мы и думали сматываться отсюда – то вовсе не в Москву. Но вдруг выяснилось, что ритина сестра, на которую был оставлен двухлетний ребенок, сама попала в роддом, а ритина мама отправляется на экскурсию в другой город. Поэтому мы срочно вписались в поезд до Москвы, причем ехали вдвоем в пустом купе в этом странном пустом поезде и всю дорогу целовались. В остальное время мы обсуждали наши планы на московскую жизнь. Меня ждала креза.
– Ты будешь ждать меня? – спросил я, когда поезд въезжал в жаркую, но слегка подзабытую и оттого не очень противную Москву, – словно уходил в армию, хотя уходил как раз от армии.
– Куда уж я теперь от тебя денусь...
Кончалось первое стопное лето, и тут выяснилось много важных вещей. Я своими руками создал для себя значительный кусок новой жизни, я ощутил готовность идти дальше, совершенно не оглядываясь на прошлое. Я уже чуял ноздрями запах свободы и ничего не боялся. И второе: я пережил серьезнейший опыт потери невинности и первый раз по-настоящему заглянул в страну, откуда так просто не уходят. От всего этого уже нельзя было отмахнуться. Я убил в себе мальчика, и за это преступление мне надо было отвечать.
Некоторые выбирают работу, некоторые выбирают карьеру, я придумал для себя странное дело, в котором нет учителей, для которого не написано руководств (если не считать руководством всю мировую литературу), где не полагается медалей и званий за беспорочную службу, а по прошествии известного срока не дают пенсии... Я обзавелся человеком, чтобы не нуждаться в человечестве, и обзавелся Идеей, взогнав свою беспочвенность и фанатизм еще на несколько градусов. Именно теперь, вдвоем с Ритой, я вдруг оказался по ту сторону, а весь мир со всей своей хренотой – по эту.
Часть 2. КНИГА ВСТРЕЧ
(Посвящается Регине Ольсен)
Год мы жили по-разному, год мы отбарабанивали, как каторгу, вынужденные существовать не так, не там и не с теми, с кем бы нам хотелось. Все прошлое лето я провел в Москве и Подмосковье, ища возможность устроиться на элитную работу, вроде сторожа, дающую мне свободу и хоть немного денег. Я бросил колледж и теперь содержал свою новую семью.
...Я не обладаю безусловным местом обитания, необходимым, как улитке ее раковина, потеря которой для нее гибельна. Я постоянно в движении, не останавливаясь нигде, потому что я двигаюсь по времени более, чем в пространстве. Движущийся по времени - я не уловим местом даже при желании. Это только моя иллюзия - возможность закрепиться, обособиться в какой-то географической координате. Мои координаты - это координаты времени и событий, и единственное определенное место появится после смерти.
Даже то, что можно было бы назвать своим, никогда реально не было нашим. Поэтому нашим оказывался весь мир, так же нам не принадлежащий, как и все остальное. Оттого еще с ранней весны мы готовили свои стопные сумки и намечали цели.
К середине зимы становилось ясно: жизнь - не только работа, не только чтение и накопление. Жизнь - расточение своих органов чувств на естественное примитивное восприятие объектов.
Работал я тогда ночным сторожем, а дни проводил в здании 1-го ГУМа, где училась Рита: ходил на лекции Кудрявцева. Он учил нас философии на основе Достоевского, Кьеркегора, Камю и Бердяева.
Параллельно я обосновался в университетской библиотеке. Попадал я туда, как подпольщик: Рита заказывала и брала книгу, и тайком отдавала ее мне, пронырнувшему мимо зазевавшейся девушки на вахте.
Хорошего в хипповом времени было вот что: мистерия отношений заменяла мистерию личной гениальности. Никто не стоял contra mundum со своей жизнью, положенной за творчество. Положить жизнь за творчество - это каждый день биться с сомнениями в своей одаренности и избранности. А это сомнительный кайф.
Творческое предложение сильно превышает спрос - и все ущемлены и сердиты. Мы не знали зависти. Нас никто не выделял, не отбирал, не оценивал - во всяком случае, до статей Диброва и иже с ним. У нас не было иерархии, кроме собственной, нами добровольно признанной. На площадке всегда хватало места, никто не мог остаться обиженным...
Любопытно, что Система всегда все знала: где надо быть, что смотреть, что читать. Обмен информацией был налажен не хуже, чем у ГБ. На выставку, концерт и фильм люди собирались как на маевку, обзванивая френдов, чье неприсутствие в данном месте будет стоить им спасения души. А прибыв на место - они находили там всех остальных, в том числе совсем неизвестных, узнавших о событии по каким-то своим каналам.
На просмотре культового роммовского фильма “А все-таки я верю” в кинотеатре “Повторного фильма”, где показывали подлинных хиппи с пацификами, собрался лом волосатых. Были такие, которых я видел впервые, в основном молодые. Потом в приподнятых чувствах всей тусовкой мы пошли к метро. С полдороги от толпы отделился высокий парень с едва отросшим хаером, по негласной иерархии - рядовой:
- А что, пипл, может кто вписать на найт?
Над весело базарящим пиплом повисла тишина. Лишь подошвы скрипели.
- Вот-вот, как слова красивые говорить, так все мы братья, а на деле...
Я переглянулся с Ритой.
- Давай впишем?
- Давай.
- Эй, ладно, как тебя звать?
- Антон.
- Поехали с нами.
- Клево, пипл!
Всю дорогу он улыбался нам и говорил:
- Вы клевые люди!
Он перенайтал эту ночь и остался на много следующих. Но я не жалел о вписке. Это оказался очень странный человек, довольно бойкий и не без шизы.
Ему было девятнадцать, и во многом, что он говорил и как поступал - он вел себя, как девятнадцатилетний, если не меньше. В первый же вечер он признался, что не очень много читает. Я стал по-педантски доказывать ему важность и пользу книг. Он возразил, что все, что он находит в книгах, он уже знает и пережил, и чувствует все гораздо лучше, чем их авторы. Я усомнился, что так может быть. И тут он совершенно будничным голосом сказал:
- Я познал истину.
Разных я встречал людей, у многих были далеко идущие амбиции, каждый второй претендовал на роль гуру, все знающего об истинном пути. Но Антон на роль гуру явно не канал, и в его тоне не было никакого понта.
В семнадцать лет он перенес клиническую смерть, покинул тело и говорил с Богом. Я пытался его поймать, опровергнуть, пытался просто простебать: ничего не выходило. Его ответы были убедительны и спокойны. Это не было заимствовано, это было его собственное, пережитое, но очень напоминавшее то, что я вычитал у эзотериков, Плотина, Гермеса Трисмегиста, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Августина, Скота Эригены, Мейстера Экхарта, Николая Кузанского... Теперь, с точки зрения этой Истины, он судил о жизни и смерти, судил здраво и глубоко, на уровне лучших моих духовных открытий, сделанных за несколько последних лет с помощью обильного чтения.
Его утверждения были громки и дерзки, он поносил модные религиозные теории, ставя на их место что-то совсем другое, что затруднялся выразить в словах. Это его не смущало: он знал, что он знал, и знал пользу, которую это ему дает. Об этом он говорил так убедительно, что походило на правду.
Пока не касалось вещей духовных и философских, то есть, самых для меня интересных - он был благодарный слушатель. Рассказы про художников, сюжеты книг, системные байки - всасывались им с неофитской охотой и жадностью. Но стоило коснуться сути - тут он становился строгим и бескомпромиссным судьей, из мальчика превращаясь в мужа. Никогда я не встречал человека более мирского и, одновременно, более эзотеричного.
С ним хотелось спорить, но переубедить его в чем-нибудь было невозможно. Он говорил лишь о том, что было ему отчетливо видно, как одурманенной пифии.
Один раз и я испытал такое: в дурдоме под циклодолом. Жаль, что “откровение” было недолгим - но запомнилось: я тоже тогда все понял. Но позже не мог вспомнить, как это так выходило понятно, как бывает во сне. Странно, как хорошо и глубоко он смог запомнить им пережитое всего один раз.
Антон помнил и всегда мог переключиться на оценку событий или идей с точки зрения своей Истины. Он считал, что не знает очень многого, но зато знает метод. И его пребывание в нашем доме превратилась в череду интереснейших разговоров, в которых он наглядно демонстрировал мощь своего метода. Увы, суть его я так и не понял.
В одном мы были согласны: в ненависти к схоластам, что не уважают и не понимают Бога - если выдумывают ад с четырехтысячемильной стеной. Бог-гордец, Бог-гневливец, не могущий убедить созданные им души в преимуществе добра, заставляющий раскаиваться во зле, потому что за него сильно бьют. Трафаретный царек с бoльшими, чем у других кулаками. Как можно остаться с такой религией? На что они надеются: верую, потому что абсурдно? Они видят подвиг - в вере, и чем нелепее исповедуемое, тем больше подвиг? Начиная с Платона и Аристотеля и кончая Экхартом и Кузанским - в Боге видели непостижимость, более Ничто, чем Нечто. Доведенное последовательно до точки, это учение освобождает Вселенную и человека от Бога, ни секунды не отрицая его. Есть земная жизнь, и есть медитация, в которой, возможно, открывается Божество. Как идти этим путем и стоит ли идти - вот в чем вопрос! Освободиться от Бога, чтобы вновь сомнамбулически искать Бога, признавая тщету человеческой жизни и разумности собственных поступков... Но мы все равно не избежим этого: жизнь это поиски, и предел ее - смерть; медитация - это поиски в смерти. Смерть - лучший медиум, жизнь - лучший противник: обратимся или к Жизни, или к Богу, то есть к смерти. Бог - это не-жизнь, Бог - по ту сторону жизни, когда в нее не веришь, когда верить в нее нельзя. Это реализация изверившихся людей, потерявших веру в стихийную разумность жизни. Гибель для жизни рождает Бога, бунт жизни - Его затмевает. Страшна только смерть и загадка отсутствия во всеобщем пребывании.
Этот прекрасный Бог - выдумал такие ужасы, которые живописал Дант, Мильтон и, вдруг! - Джеймс Джойс! За несколько лет легкомыслия - вечность наказания! Невероятная жестокость! Не хочу такого Бога. Мир и то лучше, чем его Властитель: он не придумал вечной боли...
- Спаситель, как любят писать христиане, принял на себя все человеческое, кроме греха. Какой-нибудь хипповый гуру, вроде Моррисона, так же принял на себя все человеческое, включая и грех. Поэтому тащил больше и страдал круче, - нес я новую ересь. Антон с удовольствием слушал.
Потом он взял книгу о Модильяни из серии “Жизнь в искусстве”, принадлежавшую моей теще, и навсегда исчез из нашей квартиры.
Но прежде, чем раствориться в безмерной Москве, он познакомил нас со своим приятелем и ровесником Максом, человеком, хоть и не познавшим истину, но уже отсидевшем, довольно по жизни рассудительным и не по годам начитанным. Он так же неоднократно у нас ночевал. Он тогда читал “Гаспара из тьмы” Алоизиюса Бертрана - ставшего необычайно важной для меня книгой.
А летом предложил рвануть на Кушскую косу в Прибалтику. Он так ее распропагандировал, тихое эзотерическое место, что мы, взяв трехлетнего Малыша, поехали. А он - нет.
У меня были отпускные и еще остаток от возвращенных нашей прежней домохозяйкой денег. Поэтому мы сели в поезд.
Преодолеть семью,
Преодолеть народ,
Преодолеть действительность как кару,
Дождаться на путях
Вагонов “до” вразброд,
Приливом шпал ползущих в дебаркадер.
Преодолеть толстуху-проводницу:
С пренебрежением в мою мечту-принцессу
Уставилась. Себя преодолеть - подвинуться,
Преодолеть желание аскезы.
Куриный хруст стерпеть и запах жира,
Капризное устройство малыша,
Грязь осажденного сортира...
И крышу на ночь вопрошать -
В земле той, что как возвращенье в детство,
Как возвращенье в море - или, может, бегство!
Побродив по убогому Калининграду-Кенигсбергу с зелеными и розовыми панельными домами на месте средневекового города, посетив могилу Канта у стены разрушенного собора, мы сели на маршрутный автобус, едущий через косу.
Кушская коса, как и почти все ценное, милое, неповрежденное - закрытая пограничная зона. Мы ждали, что на КПП нас вычислят и завернут. Но, затерянных в глубинах салона, на нас не обратили внимания. Мы сошли в поселке Рыбачий. Сняли комнатку у местного колхозника. И пошли к морю.
Идти до моря - полчаса по жаре, через замечательный сосновый лес, насаженный здесь после пожара, уничтожившего всю кушскую растительность лет двадцать назад, через рытвины и корни - не хилая тусня. У нас ни коляски, конечно, ничего, а Малыш плохой ходок. Поэтому к купанию приступили изрядно изможденные. Мелкая вода достаточно теплая, белый легкий песок горяч и мягок, и напоминает пюре по краю тарелки. Недалеко от пляжа стояла пограничная вышка.
Когда мы вернулись домой, нас уже ждал пограничный наряд. У нас проверили документы и отдали приказ: покинуть поселок в 24 часа. Мы, однако, не подчинились и потребовали, чтобы нас отвели на погранзаставу - к начальству. Рита зашла в кабинет, велев мне сидеть в коридоре. Там она долго о чем-то говорила с начальником. Вышла:
- Мы можем остаться.
Начальник оказался не зверь. Основные его претензии были: купаясь в море, мы отвлекаем пограничника на вышке.
- Но там купались не одни мы, - возразила Рита.
Тогда начальник стал спрашивать про меня: кто, чем занимаюсь?
- Занимается философией, - сказала Рита.
Начальник поморщился:
- Это что, марксистской?
- Ну, как сказать, сейчас он читает Гегеля.
- А, помню, три источника и три составные части... Ладно, оставайтесь.
Наш хозяин выращивает картошку. Он ходит среди нее и ругается: проклятые колорадские жуки! Проклятые американцы: подбросили нам эту сволочь! Он уверен, что жуков нам распыляли с самолетов и даже присылали в посылках.
Кроме колорадских жуков тут на косе полно грибов. Сделали огромную кастрюлю грибного супа. Ели день, ели два... Но на третий в отсутствии холодильника он прокис.
Купили у хозяина молоко, за рубль трехлитровую банку - Рита уверена, что это полезно. Я не очень любил парное молоко, оно пахнет навозом. Малыш любил еще меньше. И значительная часть осталась на ночь. Утром, после далекой ночной грозы, я убедился в верности народных примет: молоко скисло.
В этом крестьянском поселке, где хлеб завозили два раза в неделю и раз в неделю мылись в колхозной бане - имелась отличная библиотека. Рита взяла “Волшебную гору” Томаса Манна. Я - Рабле.
Развлекаться мы ездили в Ниду. Это казалось заграницей, стоило лишь переехать столбик с указанием литовской границы. Аккуратные курортного вида дома, похожие на западные. В магазинах хлеб не просто всегда и не только в форме кирпичей. Он - в изобилии, которого мы не знали в Москве. Количество сыра - без всякой очереди. Сметана, творог - без очереди. Ходили и наслаждались легкостью и красотой жизни. Обедали в местном кафе - легким летним овощным супом. Посмотрели домик того же Томаса Манна. Он был немыслимый педант: работал каждый день определенное число часов в определенное время - как на завод ходил.
Отоваренные возвратились в Рыбачий.
Купание вызывало проблему: приноравливаясь к Малышу, мы час шли в одну сторону, час в другую. Едва искупаемся - уже надо идти назад, укладывать его спать, кормить. В конце концов пропало всякое желание туда ходить. Зато все чаще ездили в Ниду.
Чтение Гегеля, которым мы разоружили начальника заставы, навело меня на странную мысль... Когда-то я был склонен думать, что во мне воплотился бог (некое божество, кто-то из богов), может быть, воплотился неказисто, с какой-то недоступной целью, но все же воплотился.
Теперь я пришел к более простой и банальной мысли: единственным богом являюсь я. Не спорю - плохим богом. Подверженным воздействиям и порокам, но свободным в совершении поступков, потому что я совершаю их исключительно ради собственной пользы, ничьей волей не ограниченный, всегда сознательно на нее ориентируясь, - и в этой сознательности - моя свобода, мой грех и моя негативная божественность.
Я был в ужасном состоянии. Рита сказала, что беременна. Надо было срочно все бросать и ехать в Москву, а не торчать здесь, отдыхать. Каждый день был дорог. Я ведь не хотел становиться отцом. Я еще так мало пожил и так мало насладился свободой.
Я хотел, чтобы люди достигали своего призвания раньше, чем предела сил, все время подбирая ноги на прокрустовом ложе. Богатырю у камня открыто три дороги, три направления, на которых он неизбежно потеряет что-нибудь существенное. Но если он начнет богатырствовать на свой страх и риск, его побед не зачтет ни один летописец, потому что они будут вне поля его зрения - по тем или иным причинам. Но главное - что сам богатырь уже значительно продвинулся за камень.
Окольцованный со всех сторон, я не хотел быть прикованным к миру еще и за пенис.
Как в человеческой матке зародыш вынашивается и упорно-необратимо оформляется, так и живущий человек в глубокой и глухой матке своей среды неотвратимо, бессознательно и целенаправленно вынашивается в то, чем он станет в витках нарождающегося мироздания. Чтобы когда-нибудь на досуге, никак этого не избежав - лечь на кого-нибудь или под кого-нибудь, чтобы снова зачать и вынашивать того, кто заступит на его место в акте существования и никогда не простит тебе, открывшему ему мир, которым он не в силах обладать... Нет, это не для меня.
Итак, однажды утром мы вновь сели на идущий в Литву автобус, но в любимой Ниде не вышли. На пароме мы перебрались в жаркую летнюю Клайпеду, где у нас не было ни одной привязки.
К тому же у меня безумно разболелся живот: иногда он заставал меня, словно женщину в известный период, совершенно врасплох.
В поисках пристанища мы пошли в гостиницу. Во всех центральных гостиницах - отказ. Нам советовали поискать на околице. Там была сеть гостиниц-общежитий: деревообрабатывающей фабрики, мясокомбината, музыкального училища и типографии.
Комендант-заведующий общежитием от деревообрабатывающей фабрики напоминал шкаф и был столь же груб и туп, как он.
Заведующая общежитием от мясокомбината - огромный окорок, лишь немного прикрытый с самого верха крашеными волосами. Полный невруб в наши проблемы.
Заведующая общежитием от музыкального училища - виолончель. Она оказалась более сострадательной. Но пустить нас не могла.
Заведующий общежитием от типографии вообще отсутствовал.
Зато в Клайпеде была “Машина Времени”. И мы поехали на концерт.
Так вышло, что я никогда не слышал “Машину” вживую. С 75 года я слушал их записи, пару раз, преодолевая презрение к отечественному року, ездил на их концерты, но, как Веничка в Кремль, попасть на них не мог: каждый раз вместо них выступал “Автограф”, бывшие “Високосники”.
И вот мы пришли к огромному киноконцертному залу и в обычной кассе купили обычные билеты, а не какие-нибудь московские обрезанные открытки, что подпольно распространялись среди своих (концерты-то тоже были подпольные, в каких-то подмосковных клубах, никаких афиш).
“Машина” играла известные и уже почти официальные хиты, люди не сидели друг у друга на головах, не орали, не пили из-под полы портвейн, не сходили с ума, и вообще от всего этого разрешенного концерта веяло конформизмом и совковой эстрадой. Светомузыка, дым, никаких шуток, никаких незапланированных эскапад. Между нами и ими тщательно соблюдалась невидимая стена, как между демонстрантами и правительством на террасе мавзолея. Да и новые песни “Машины” были обтекаемы, скучны и двусмысленны: и нашим и вашим.
Малыш бегал по рядам, напрягая зрителей и милицию. На нас все время шикали и грозили вывести из зала. Потом он захотел писать, и с середины концерта мы ушли. Я пошел с ним в мужской туалет, где он писать наотрез отказался. Нервы сдали, и я здорово его отлупил по голой попе: за сорванный концерт, за постоянные капризы - за мою боль в животе.
Когда я вел его в слезах по вестибюлю, в ужасе о того, что я сделал, толстые пожилые вахтерши гневно кричали мне вслед:
- Э-э, волосы отрастил, а ребенка бьет!
- Его самого бы побить! - Можно подумать, они своих детей-внуков только шоколадом обмазывают.
- Что случилось! - воскликнула Рита, увидев заплаканного Малыша.
Я рассказал и теперь получил еще и от Риты.
- Тебе нельзя доверять ребенка, я не знала, что ты садист!
Молча, не глядя друг на друга, мы сели в автобус и поехали к трассе.
Довольно легким хайком, словно прогулялись, мы попали в Каунас, к Римасу и его новой жене Марине.
Это была удивительно безалаберная квартира даже для моего приглядевшегося глаза. Из обоих кранов текла незакрывающаяся вода, без отдыха работал телевизор. Книг не было, зато был ворох машинописных листов и ксер с откровениями из всяких религий и диссидой.
Комната без света, квартира без лампочек. Чайник сгорел. Ели кашу, если была, картошку и чай. Брошенная в раковину посуда надолго забывалась, как надолго забывалось потребность платить за все эти удобства.
Бдение продолжалось всю ночь (тогда-то и начинались разговоры: телевизор больше не показывал). Спали до вечера, а потом несколько дней не спали совсем. В доме паслась куча народа. Все что-то варили, что-то приватное (и чреватое). Постоянно курили, принимали друзей и нуждались: начиная от сигарет и сахара.
В редчайших случаях Марина с Римасом покидали дом, защищающий от ненавидящих их соседей, улицы, участкового, упиливали с ранья на дербан за город. К вечеру они возвращались, как счастливые охотники, веселые, живые и полные впечатлений, начинали на кухне готовить одним им известным способом пойманную дичь, болтали с нами, пили чай - и вновь укладывались на диван. Иной мебели в доме не было.
...Они знали, что все время висят на волоске, что если не придут с обыском на квартиру, не поймают на маковых полях, то рано или поздно они все сдохнут от передозняка или от грязной машины. Они все время хотели соскочить, все время говорили об этом, ссорились, даже что-то предпринимали - но ничего у них не выходило. Смотреть на них было грустно. Римас даже постригся (верх падения), чтобы не привлекать внимания ментов. Теперь их главной мечтой было: купить грамм настоящего героина за восемьдесят рублей. Ради этого они уже готовы были распродать то, что у них еще осталось из вещей, и седьмой раз просить у родителей Марины деньги на билет, чтобы она могла съездить домой. Серьезный вопрос, который обсуждался на семейном и дружеском совете: будут ли предки столь наивны, что поверят опять?
Они напоминали детей и одновременно приговоренных к смерти, весело или безразлично доживающих последние дни.
Мы втроем на целый день уезжали, бродили по городу... В первый же день, как презренные обыватели, пошли в музей Чюрлениса. В маленькой Литве ему совершенно справедливо отгрохали собственный музей современной архитектуры универсального типа, пригодной для сельского клуба, спортшколы, бассейна и т.п., на которую так щедры выпускники МАРХИ, где сочетались кубы и цилиндры, было вдоволь стекла и бетона с робкими намеками на архитектурные излишества, и где человечнее и чюрленистее всего был зеленый дворик. В одном из залов постоянно звучала его музыка, у лестницы продавали пластинки и открытки (но ни одного альбома). Впечатление от музея осталось синтетическое и, в общем, хорошее. Сумасшедший, достойнейший человек!.. Когда видишь, что все это не выдумано, а действительно существует, и оно еще лучше, чем на картинках, кажется, что жизнь имеет смысл и что это вообще каким-то образом тебя оправдывает.
Мы возвращались домой, и находили Римаса и Марину на привычном месте перед телевизором, молчаливо ушедших в экран.
У нас телевизора никогда не было, а если бы кто-нибудь подарил, я бы тут же выкинул его на помойку. Лишь под сильным кайфом можно было настолько исполниться невозмутимости и всетерпимости, чтобы созерцать эту серую хреноту.
Истинная философия - не унижать таланта чувств приносить радость - без всех экстраординарных возбудителей. Главное - найти исключительно себя: с таким даром уже не будешь несчастен.
Это и есть личность, которая отнюдь не принадлежит нам постоянно. Ее возвращение и есть вдохновение. И тогда я беру тетрадку и пишу стихи.
Отгородиться стеклянной стеной
От низкого потолка,
От чужого несчастного дома,
Где душа друга гниет
На снегу третьего полюса.
От добрых глаз больного города,
Наполненного друзьями
С ушедшим богом.
Ты один их единственный Петр,
Не вольный уйти.
Сократовски - целый день
Вбирать телервоту,
Заблеванный до последней чакры,
Ногой сгрести в угол
Будду и Сартра -
Ничего не будет,
Ничего не надо!
Вы зло несчастного добра,
Которое смущает - не уча.
Выйти самозвано за врача,
Смеяться в умную бороду
По незначительному поводу.
Прокуренные и проколотые - мы!
Просвистанные и укатанные
В желтых казенных фиакрах,
Поротые и заплатанные,
Всегда не такие, как надо -
Ни им, ни себе.
Виснет проклятие матери,
А на улице хозяева облепили комом:
Поэтому такой важный,
Скорее похожий, чем незнакомый,
Поэтому такой отважный...
Посреди кассового зала на Каунасском вокзале стояла нелепая фигурка. Никуда не двигалась и ничего не делала. Я вдруг увидел, что это был ребенок. Он, вернее она, стояла в длинном пальто, в шапке с хвостом и грызла леденец на палочке. Она сгрызала его очень быстро и сразу лезла за другим, лежащим у нее в сумочке, висящей на ремешке через плечо. И так она стояла и грызла один леденец за другим, и не отрываясь смотрела на меня. А я, повернув голову, на нее.
Спереди послышались шаги. Из темноты коридора вышел патруль из двух человек. Бесстрастной походкой они подошли ко мне. Они тоже смотрели на меня, а потом попросили паспорт.
- Дядя, дай десять копеек, - вдруг раздался детский голосок, только патруль отошел.
Я увидел, что это была цыганская девочка, жадными черными глазами глядящая мне в лицо. Еще я увидел в углу на полу целый цыганский табор, присутствие которого совсем не взволновало патруль.
Билетов на Москву не было.
- Попробуем стопом? - спросил я у понуро стоящей в углу Риты, не ждущей ничего хорошего.
Она равнодушно кивнула. Кажется, нам бы только доехать до Москвы, а там мы разберемся во всех проблемах, может, каким-нибудь кардинальным образом.
В этом году мы были автостопщиками поневоле.
Можно за многое корить русских людей, но вид женщины с ребенком на дороге, даже в компании такого охламона, как я, действует на них безотказно. Грузовики соревновались с легковушками, чтобы подвезти нас хотя бы десять километров. И мы честно, не вдаваясь в нюансы идеи, могли сказать, что едем, потому что нет билетов.
- А вы бы с проводником поговорили, - советует нам владелец “жигулей”, добродушный сорокалетний белорус в усах, которому приятно поучить молодежь уму-разуму. - У них всегда есть места.
И мы киваем, ну да, мы такие лопухи, ничего в жизни не знаем. Так, собственно, и есть.
Зато у забора в окне попутной машины - рябина, красная, как революция. Лето кончалось, и трасса была как выставка: деревья вдоль обочин, даже одних пород, раскрасились в фантастические цвета, словно плюя на все законы естества и видoвой солидарности.
Вечером мы были в Смоленске. Уже третий раз Смоленск становился переломным пунктом путешествия. Найтать все равно было негде, и мы с любезным хозяином “жигулей” поехали на вокзал. Не хотелось терять время и спать неизвестно где, когда можно было поспать в поезде и утром быть уже в Москве.
- Так делайте, как я сказал, - напутствует нас на прощание мужик, - идите сразу к проводникам...
Дети, как известно, - единственный привилегированный класс. Когда родители на вокзале дерутся за приобретение билетов, отстаивая трехчасовую очередь, они могут носиться по грязному мраморному полу или изнывать на чемоданах, а потом, в случае удачи, зажатые мамами и вещами, опочить в общем вагоне, в компании сдавленных, измотанных людей.
В купе пять чемоданов и двадцать корзин, чтобы заполонить Москву продуктами провинциального умельничанья.
Я еще напишу, думал я, что очередь в вокзальный буфет в 11 часов вечера измеряется тридцатиминутным жизненным интервалом. И в вознаграждение за это человек получает бутерброд с сыром, маслом или колбасой, курицу, творожный сырок, яблочное пюре и стакан сока за 20 коп. Поставить автомат с газированной водой выше сил администрации. На смоленском вокзале негде сесть. Два года назад меня здесь кинули на 60 руб.
Подкатил поезд. Первые вагоны были пусты, в следующих степенно прохаживались пассажиры, последние вагоны были набиты битком - сидящими, лежащими и забравшимися под самый потолок. Голосили дети, взрослые толпились у туалета, отупело свешивали глаза с полок, обмеривая неусыпных ходоков.
- Молчали красные и синие, в зеленых плакали и пели, - на исходе сил попыталась шутить Рита.
“И чтобы они не молчали, их отменили совсем,” - зло подумал я.
Нам по счастью достались места в середине. Правда, в соседних купе.
- Не соглашайся, хватит, оставайся здесь, - советовала мать взрослой беременной дочери, которой я предложил обмен.
- Не надо, да ну их! - сказала Рита и вновь дернула уже присевшего и собравшегося к чему-нибудь привалиться Малыша.
По отступлении матери на перрон, я уладил с молодой дамой, и теперь мы могли сесть друг напротив друга и улыбнуться началу путешествия.
Я раскрыл журнал со скучным романом славного пера, Рита смотрела в окно. Побежали перелески, одноцветная мозаика кирпича и вся та жизнь, которая тяготела к железнодорожному полотну.
За окном дрожал ломаной линией черный лес, промелькивали печальные деревенские огоньки...
Есть одна Россия: ее увидишь иногда на земле или в воде, или в небе. Страна сырости и тумана, черных берез и грачей, страна одноэтажных кривобоких особнячков с окантовками и лепниной, страна глохнущих палисадников, страна оборванных людей, покосившихся, поломанных заборов: вся покосившаяся невероятная Россия, невидимая Россия.
А другой России - нет. И имя-то у этой не-России другое. Здесь джинсы - ценнейший двухсотрублевый продукт, потеря которых для современной, отчасти даже интеллигентной девушки больше, чем потеря невинности...
Поезд мерно стучал и подпрыгивал, а за моей спиной разгоралась драма. У девушки, что ехала в вагоне уже сутки, украли джинсы. Украли ночью, во время сна, когда поезд стоял в Смоленске. Украла, возможно, соседка по купе, там сошедшая.
Текли слезы, и допрашивался проводник, ничуть не тронутый излияниями горя, и обвинявший в свою очередь пострадавшую. Один из спутников поделился с ней брюками и инцидент медленно затух, продолжая притчей притушено курсировать по вагону до самой Москвы.
А я все так же безучастно сидел спиной к происшествию, ни разу не полюбопытствовав о личности пострадавшей, в холодной прибывочной скуке.
Я сидел и был спокоен, потому что я не вор. Что и при желании меня нельзя заподозрить. С другой стороны, как раз все наоборот, потому что подозревать можно было любого, значит, и меня, и я это ясно понимал. И потому чуть-чуть нервничал и даже дополнительно показывал безучастность. Такой вот дуализм.
Поезд врезался в мол перрона, и сразу все судьбы, все слезы были смешаны и развеяны холодным воздухом вокзала, дымами поездов и бешено летящими облаками над крышами посеревших многоэтажек.
Потом был первый аборт. После него я вообще отказался от близости. Из-за этого вышла страшная ссора, венцом которой был закономерный разрыв...
Я очутился на свободе, будто снова рожденный, но на этот раз меня не держали заботливые родительские руки. Я был один, я вновь учился ходить, быстро, не оглядываясь на ковыляющих детей, вольный не есть, не спать, не ходить в магазин. Вольный хоть целый день думать - и не знать, с кем поделиться плодами своих дум. Теперь я во всей ясности ощутил мысль Кьеркегора: человек покинут на самого себя. Он признавал: если бы он не расстался с Региной Ольсен, он никогда бы не стал самим собой.
И все-таки человек живет надеждой на встречу.
Я уже обрел всех, кого мог встретить в книгах и кого мог встретить на дороге.
И ложась спать в пустую постель, на которую я даже не стелю белье, я думаю: когда же грубые пальцы моей души будут достойны удерживать хрупкие драгоценности лучшей жизни, блеснувшие мне с витрины ювелирной лавки встреч?
Часть 3. ОСТРОВ
Существует много способов йоги, и дорога - один из них. Километры отшелушивают, как коросту, легенду о себе - как о существе, не способном познавать. Дорога - это наука о познании, это высшая экстравертная йога, когда новыми неведомыми фактами и трудами человек обнаруживает подспудного и реального себя. Себя, окруженного в повседневности тысячью подпорок, мешающих ему как упасть, так и правильно думать о подвижном. Человек настраивается многими способами. Он должен быть постоянно в точке наибольшей амплитуды колебания, чтобы обрести наилучший угол восприятия. Если в обычной жизни ты создаешь систему, замкнутую на тебе самом, то в дороге ты в буквальном и переносном смысле оказываешься в подвижной системе, где предметом манипуляции становишься ты сам, не только как социальное существо, но и как существо физическое, когда разум, выступая в ущербной для себя второстепенной роли, попадает в состояние кризиса. Но кризис - предпосылка роста, и так как человек - это бесконечное познание, то, значит, каждая дорога - это путь к самому себе.
Надо новыми ходить путями,
Надо небеса искать другие,
Истукана медного плетями
Бить и в барабаны бить тугие.
Разрушать и подводить итоги,
Отказаться от легенды детства скудного,
Что плоска земля, всесильны боги,
И домой ни с чем вернутся путники.
Из ушей весь воск повыковыривать,
Все заборы в околотке перемерить,
Не переменяться, не завидовать
Тем, кто прозаично входит в двери.
И опять и говорить, и горбиться,
И, сияя, избегать крушения,
Чувствуя, что о тебе заботятся...
Эти царства гибнут от движения.
Движение - форма существования свободы... Так было написано на нашем знамени.
Перед самым отъездом вдруг выяснилось, что стасовы знакомые хиппари из Уфы, разагитировавшие нас податься на Алтай, как в место девственное, рериховское и изумительно красивое, - не приедут.
Стас предложил сменить Алтай на Кавказ. Даже придумал соблазнительный маршрут: Военно-Грузинская дорога, перевалы, дикие места, потом побережье... Но я резко отверг это как слабость и заявил, что, в таком случае, поеду один. Мне претил очередной легкий и курортный маршрут. В качестве разминки после зимы я только что съездил в Новгород, причем последним мной застопленным был мотоциклист, едва не поколебавший известный хипповый афоризм, что плохо ехать лучше, чем хорошо идти. Доморощенный рокер показал хрен знает какой класс, так что вместо ног сильно напряглось мое мужество.
Мне давно хотелось многотысячного стопа в совершенно неведомые места. Я тогда расстался с Ритой, как мне казалось, навсегда. Я был свободен. Мне надо было восстановить или утвердить героическую сторону своего характера, наполнить чем-то большим образовавшуюся пустоту. Рита с Малышом и многочисленными друзьями поехала в Пицунду, я - на Алтай. И правильно. Если бы я не поехал на Алтай в том году, я не съездил бы туда никогда.
Я еще не слышал рассказов про то, как тяжело путешествовать со Стасом, как остро он переживает, кто будет нести самый тяжелый рюкзак, сидеть рядом с водителем... Я не почувствовал никаких сложностей, я просто не соревновался с ним, кто круче: каждый нес свой рюкзак, а в машину я охотно запрыгивал первый.
Стас был интересным субъектом. Он тоже недавно расстался с возлюбленной, кончил колледж, бросил работу по распределению и теперь жил совершенно свободно. У него одного из первых завелся свой флэт, где всегда пасся народ, у него были ярко выраженные богемные привычки, что в нашем кругу было тогда некоторой редкостью. Помимо этого он обладал большим обаянием, юмором, самоуверенностью и понтом, что ему шло. Был мастером телеги. Хотел казаться лидером и действительно был открывателем новых жанров деятельности, новых настроений и даже новых групп. “Не надо терять пафос”, - сказал он однажды и тем самым косвенно подтвердил, что Система - религиозное образование. Женщины были от него без ума. И даже девочки. С друзьями он изображал уверенного, пресыщенного жизнью человека. В путешествии выяснилось, что он довольно капризен и привередлив к неудобствам, и не прочь впасть во внезапную мрачность. В любом случае, с ним не было скучно. Если хочешь понять человека - отправься с ним в стоп. Именно так я убедился в Рите. И совершенно не ошибся. Скорее, я ошибся в себе.
Выбираясь из Казани, забыли в автобусе палатку. Накануне, во время ночевки на ней на полу казанского вокзала, ее у нас торговала цыганка. Их табор расположился по соседству, на ступеньках в глухом конце ведущего в никуда коридора, мы же лежали на проходе, и через нас всю ночь ходили люди. Это было лучшее из возможного: я могу спать только горизонтально и в отчаянии был готов залезть в автоматическую камеру хранения. Предыдущую ночь мы тоже не спали - после целого дня стопа, под дождем, начавшемся еще в Горьком, застряв на ночь в Чебоксарах и промаявшись в холле местной гостиницы, где, натурально, не было мест.
Не меньше часа мы ехали через Волгу, в середине которой из вида исчезли оба берега.
- Не всякая птица долетит до середины Днепра... - философски заметил Стас.
День мы посвятили Казани. Мы решили передохнуть, поесть, по возможности выспаться. Город показался на редкость неуютным: огромные площади, где хоть десять московских парадов проводи, и прямоугольные коробки раннеотепельной поры. Мы знали, что это город с на редкость злой урлой, и рассекать по нему не очень-то тянуло.
Палатку (к тому же чужую), на которой мы собирались спать, мы цыганке не продали. Но пользы нам это не принесло, как она нам и предрекла. Мы объехали и оббегали весь ужасный город Бугульму, куда укатил автобус, но палатки так и не нашли.
Это можно объяснить бредом, в котором мы тогда пребывали. Казалось, что вся Казань выбиралась стопом в это утро на свежий воздух. Стоп здесь обычное дело, поэтому на шоссе мы стояли в длинной шеренге соискателей. Наконец нам надоело бесполезно поднимать руку:
- Рука бойцов колоть устала, - продекламировал я, и мы побрели обратно в город к гордо игнорированной нами автобусной станции.
Там нас ждала толпа в тысячу человек во все кассы сразу. Неожиданно мужественно мы отстояли очередь и вписались в этот злосчастный автобус, на котором думали без проблем доехать до трассы на Уфу (в Бугульму мы вовсе не стремились, а люди там - кремни. Я мечтал только о том, чтобы из-за амбиций Стаса не влипнуть в фейсовку). Так что после Бугульмы мы ехали налегке.
Прямо с утра мы выходили на трассу и ловили машину. Определяли издали: если горизонтальная решетка на радиаторе - возьмет (УАЗ), если вертикальная (ГАЗ) - нет (у него всего одно место). (Это, конечно, не касалось КАМАЗов и МАЗов, которых на той трассе почти не было). Наличие горизонтальной решетки на машине вовсе не гарантировало удачное в нее (машину) вписывание. Тогда двигались к цели шагом, иногда по несколько часов, созерцая собственную все удлиняющуюся тень.
Стас придумал отличное определение: “Завтрак надо заслужить”, - и мы заслуживали его полдня, пока наконец пойманный нами водитель не останавливался пообедать. Есть и не очень хотелось - радовались тому, что все-таки едем: это заменяло еду и прочие потребности, даже самые неотложные (мужчина все же удачно сконструированный механизм, он неплохо и быстро приноравливается к ситуации). Единственное - мучил сон: после плохой ночевки где попало - в машине рубило. Стас засыпал легко и без комплексов (для этого он и стремился сесть с краю). Меня лишь мучительно мотало и морило, но я считал, что спать рядом с трудящимся водителем нехорошо. К тому же я всегда должен был поддержать разговор, приди ему в голову это желание. В конце концов, иной радости ему от нас нет.
Запомнился красивый Урал. Я люблю горы, оазисы бунта и высокомерия на этой плоской равнине. А за Уралом началась настоящая плоскость - континент Западной Сибири. На тысячи километров - тайга, и через нее прямая, как струна, трасса, без единого населенного пункта. Лишь на редких перекрестках какой-нибудь навес с шашлыком. Когда нас здесь выкидывали, ощущение было, как в песне Высоцкого: “Пятьсот назад, пятьсот вперед”. Но мы были молоды и оптимистичны, и боги дороги нам покровительствовали, как они покровительствовали всем хиппи.
В Новосибирске мы искупались в грязной, быстрой и широкой Оби. Это был целиком пятиэтажный сталинский город из красного кирпича. Довольно чистый и интеллигентный. Кроме Новосибирска понравилась Уфа, которую мы проехали из конца в конец на трамвае. Входившая публика была на редкость прилична. Определить это легко: по степени невнимания к двум волосатым субъектам с рюкзаками. В Уфе и Новосибирске на нас не глазели, не показывали пальцем, не кричали ничего в спину. Нас почти не замечали, уважая наше право на душевную неприкосновенность. Не замечали нас и менты. И мы их тоже.
О нравах сибиряков или покровительстве тех же богов: в Барнауле мы неожиданно взяли палатку в пункте проката, по московским паспортам и с нашей внешностью. Огромный тяжеленный двуспальный мешок, но мы и тому были рады.
Преодолев за неделю почти четыре тысячи километров - на автобусах, поездах, а главное, стопом, ночуя в стоге сена и под кровом гостеприимного алтайского сарая, мы были на месте. Новом, необжитом, мало похожем на курортное. Близком лишь к горам, Китаю и родине утонченной духовности, Стране Востока, что находилась где-то поблизости, в основном - в нас самих.
Мы поселились на маленьком острове. Из предыстории, как мы на него попали.
Если двигать от Бийска вверх по Чуйскому тракту до Горно-Алтайска, а потом свернуть влево на ужасную алтайскую дорогу, то рано или поздно выедешь к поселку Артыбаш на Телецком озере, этакому Байкалу в миниатюре, русской Швейцарии всуе и пр., и пр.
Но главное - остров. Возможно, это был первый остров в моей жизни - того рода, о котором я хочу сказать. Он воспринимался именно как игрушечный мир, система исчисления, отделяющая, а не соединяющая с главным миром посредством своего географического подобия, а как раз - вопреки ему, некая воображаемая система независимости. К тому, что озеро это довольно безлюдно, что помогло небезызвестным Лыковым скрываться в его окрестностях полвека, присоединилось то, что немногочисленные туристы не отваживались переходить маленькое болото, отделяющее остров от их тропы. Он (остров) был довольно выпукл, торчал вверх чуть ли не на половину своей ширины, с обильно произрастающей на нем березой и сосной, так что мы чувствовали себя весьма независимо на этой нашей отдельной территории, вплоть до загорания ин ньюд на самом живописном склоне.
Остров отличался прихотливой круглой формой, постичь которую хватило бы двух минут, необходимых на его обход. Как я сказал, с одной стороны он был ограничен болотом, с других - водой, куда могли бы пристать лодки, имейся они здесь и будь фарватер более узок (с середины озера остров был неотличим от берега, в чем мы убедились, сплавав однажды для развлечения на маленьком теплоходике по всему озеру, от северной его части до южной. Там были уже одни голые горы и никакой тайги. И маленькие прибрежные фактории из одного дома каких-то собирателей мумия, отрезанных от всего мира и соединенных с человечеством лишь по воде).
Но даже такой маленький остров обладал своей тайной романтикой и экзотикой, предлагая несколько направлений или вариантов для сообщения между своими частями. Можно было идти через его макушку, преодолевая самый заросший и крутой склон, и выбраться на северную сторону, где стояла наша палатка, спрятанная от дождя под огромной прибрежной сосной. Или можно было идти чуть правее и, одолев спуск, расчлененный ступеньками из корней, попасть в импровизированный японский садик (для медитаций в стиле дзен) с двумя причудливыми деревцами и красиво изрезанной и украшенной камнями прибрежной кромкой. На противоположную, самую пологую и солнечную сторону, существовал путь в обход, вдоль берега, хотя при желании можно было свернуть раньше, поднявшись по склону - и выйти на пляж сверху. Поэтому на вершине острова пересекалось много тропок, разбегавшихся самостоятельно и убежденно в противоположные концы этого крошечного мира, напоминавшего знаменитую родину Маленького Принца.
В первый же вечер Стас сплел из прутьев пацифик и примотал его к длинной палке, которую воткнул на берегу - установив наше право собственности на этот остров. С близкого берега нас видели лишь коровы, а редкие туристы не могли разглядеть ничего в деталях (а на дальнем мы сами не видели ничего). Так мы и жили, в этом богатом мире в миниатюре.
Вечером, когда рис или макароны были уже съедены и чай выпит, я доставал флейту и извлекал звуки, бродя по берегу озера, лежащего в густом тумане, по прибрежным валунам, словно по собственному дому, ничего не различая за порогом, чувствуя в этом съежившемся до предела, до нашего острова мире какое-то аскетическое вдохновение.
Изредка мы наведывались в Артыбаш, за хавкой. В первый же день мы купили в местном сельпроме эмалированную кастрюлю - готовить еду. Ибо тащить что-либо из Москвы было нам влом. Уезжая, мы бросили почерневшую кастрюлю на острове - то есть прикопали до будущей встречи, которой уже не суждено было случиться.
В первое же утро мы устроили банный день - отмыть себя от дорожной грязи. Душем служила алюминиевая кружка с ледяной телецкой водой. После этого душа мы уже не одевались: грелись на солнце, разжигали костер, готовили еду и ели ее.
Как теперь сплошь и рядом бывает в подобных ситуациях, в неудобное положение попадает тот, кто увидел, а не тот, на кого смотрят. Для меня укрытие определенных мест тела - это либо неподготовленность, то есть сила привычки, “кольцовки”, либо проявление сексуальной озабоченности наоборот - через подозрение ее в других. Я не хочу подыгрывать самым низким инстинктам в человеке. Для меня этот суеверный страх является синонимом обмана и способом манипулирования своим телом как некоей уникальной магической системой, властной управлять себе на пользу или во вред эмоциями окружающих. Но низменные эмоции надо презирать, а не признавать и им следовать.
Я посвятил несколько лет борьбе со страхом быть голым. А победив этот страх - уже почти ничего не страшно. Впрочем, не тот здесь климат, чтобы часто обнажаться.
Интересно, что нас никто не беспокоил: ни местные, ни власти, ни туристы, ни рыбаки, ни досужие путники, ни пограничники, охраняющие “границу” в любой точке Советского Союза (советская граница - это метафизическое понятие: она проходит повсюду, главное - в душе). Никто ни разу не появился у нашего костра, что сильно разнилось с нашим опытом стояния в обжитых и популярных местах, вроде Крыма или Кавказа. Всем было на нас насрать - и это был свежий и продуктивный подход.
Это только кажется, что тайга - что-то очень богатое, сама сила дикой необузданной жизни, буйство и разнообразие девственных флор и фаун. Тайга бедна и однообразна. Трава в рост человека на ее подступах, непроходимая чаща подлеска, бурелом, в котором не найдешь ни ягод, ни грибов, ни самого себя. Да здесь их и нет (ягод и грибов). Звери здесь ходят по своим звериным тропам, а потом по ним же ходят лесники, охотники и туристы. Поэтому зверей не видно тоже. Заблудившихся туристов ищут с вертолетом и не всегда находят. Мы заходили в лес только за дровами, на пять метров в глубь. Дальше не хотелось, да и не имело смысла. Там был сероводород и давление чащи.
От отсутствия движения мы заскучали. Захотелось впечатлений - и с утра мы пошли в поселок, чтобы сесть на маленький пароходик или катер: каждый день мы видели его, ползущего мимо нашего острова куда-то в туманную даль озера. Нам захотелось увидеть его край - и вообще окрестные земли, которые неоткуда было больше обозреть.
В округе, говорил нам бородатый старик на катере, пока мы плыли в сторону легендарных гор, сохранилось несколько деревень со старыми алтайскими обычаями, обитатели которых еще не сняли национальные костюмы и верят в шаманов. Возле одной из них традиционно падают третьи ступени с Байконура, лишь успевай уворачиваться. А это же стопроцентный титан! Местные жители разыскивают его и толкают охотникам. Он сам нашел однажды какую-то хреновину, напоминавшую старую кастрюлю. Дал по ней топором, и топор вдребезги. Я экзотических этих деревень не видел. Видел деревни традиционно-русские, безнационально-нищие и серые. И обычных русских людей, в телогрейках, небритых и не очень трезвых, которые пасли настоящих индийских коров: белых (с пятнами) и внушительных размеров. До Индии было отсюда - рукой подать, и они мне казались посвященными богам или самими богами.
Мы думали прожить здесь чуть ли не месяц, а прожили десять дней. Этому способствовало три обстоятельства.
Первое: стасовы знакомые хиппари действительно не приехали. Второе: постоянно лили дожди, чему в этом месяце и месте быть не полагалось. Третье: Стас заболел.
- Проклятые рудники! - прохрипел закашлившийся Стас. Это было начало.
То, что лили дожди, было неудивительно. Я обладаю железной способностью привозить с собой дождь. В следующем году я привезу дождь в разгар лета в Азию. Талант, не иначе.
И третье - Стас. Он не то заболел, не то просто пришел в плохое настроение. Мне тоже уже поднадоело каждый день по два часа разжигать мокрый хворост, чтобы сделать еду. Донимала мошкара, особенно по ночам, оказавшаяся злее и досадлевее комаров, от которой защищала лишь вьетнамская “Звезда”, припасенная на наше счастье Стасом. И мир был слишком мал, чтобы поставлять новую информацию. Если бы можно было купаться: но вода в Телецком озере, этом младшем брате Байкала, была не сильно выше температуры замерзания.
- Мы слишком долго смотрели на это озеро, - произнес Стас ритуальную фразу (где “озеро” могло заменяться “рекой”, “горами”, домом напротив), предшествующую снятию тусовки с насиженного места и перемещению в некоем чарующем малоопределенном направлении.
В очередной хмурый дождливый день мы поперлись в обратный путь. Стас еле брел по дороге, матеря мокрую палатку, ставшую в три раза тяжелее с тех пор, как мы ее взяли. Я молча взял ее у него из рук на весь оставшийся путь. Мне легче утомлять ноги, чем психику, слушая жалобы и огрызаясь, педантично отстаивая равенство. Я презираю ссоры между друзьями. Ссора запомнится больше, чем минута слабости, которая может быть у каждого.
Стоп на этих предгорных дорогах отсутствовал. Люди за стеклом таращили на нас глаза: кажется, они не подозревали, что можно кого-нибудь куда-нибудь подвозить, пускать постороннего человека в свою драгоценную консервную банку.
Перед каждой машиной Стас строил умильные рожи, выражая всей фигурой и приветственными знаками любовь к водителю и неотложную нужду ехать. Для этого он красноречиво проводил большим пальцем вдоль горла.
- А ты не боишься, что они думают, что ты им угрожаешь?
- Откуда я знаю, что они думают?
И только машина проезжала мимо, он яростно кричал ей вслед:
- Жлобы! Чтоб у вас колеса отвалились!
Ни одного грузовика. А этнос достал еще в приснопамятной Бугульме. Пьян, подозрителен и недружелюбен.
Поэтому, усталые, мокрые, в Барнауле мы сели на поезд. Трое суток мы катились в столицу через весь совок.
Давно я не пребывал так долго в замкнутом пространстве. Поезд - маленькая тюрьма на колесах. С редкими минутными остановками в небольших городах, когда можно походить, как по тюремному дворику, по платформе, размять спину, купить себе какой-нибудь вареной картошки на обед. Я чувствовал себя вполне бодро: я писал и читал купленные в Новосибирске книжки про чань-буддизм (этот город был главным их творцом и поставщиком). “Ворота сладчайшей росы” - так древние монахи именовали свое учение. Читая такое, я был счастлив.
Еще я думал о своих друзьях, о Стасе, воображая их героями некоего ненаписанного “романа”.
Многие из них были ранние интеллектуалы, не смогшие найти применения своим специфическим знаниям. Период их “творческих исканий”, вероятно, подходил к концу, и их самоотдача все более выливалась в форму колких филлипик, настолько холодных и рассудочных, что в них гибла всякая иллюзия творчества.
Стас относился к тем счастливым универсальным людям, которые могут любое дело обратить в спорт - но только ради собственного удовольствия, ради счастливого чувства победы. Но оно не нужно им как таковое. У них всегда есть на примете что-нибудь еще, что завладевает ими поминутно в зависимости от ситуации. Они не прячутся в творчество, как в скорлупу, чтобы считать себя лучше других, или как в единственно гармоничный мир, потому что они и сами достаточно гармоничны, и мир для них долгие годы будет поставлять возможности быть тем, чем хочется на самом деле и что для них естественно. Отсюда их возможности, отсюда их конечное бесплодие. На границе молодости, в конце адаптации они оказываются без навыков, у разбитого корыта, не выработав в себе ни привычки, ни уверенности. Их дарование остается химерой. На поверку внешне менее одаренные люди добиваются гораздо большего - если не в отдельных шедеврах, то в удельном объеме славы. Они могут всю жизнь оставаться умницами и оригиналами, но так никогда и не решатся на сознательную рутину любого творчества. Они сильны на коротких дистанциях, но им претит профессионализм. Конец их может быть плачевен: их запирают в стены какого-нибудь слишком конкретного учреждения, и они обретают то, что никогда не имели и не искали, но именно поэтому должны были найти. Или они все-таки вписываются, устраиваются, и с этих пор внешний профессионализм лишь подразумевается, и люди смешивают фиктивную свободу с фиктивной обязанностью, что оказывается для них желанным оптимизмом. На определенном этапе они могут одуматься, заговорить о скуке своего бытия, о плене, но получив мощную прививку пресного труда, уже никогда не найдут в себе сил на авантюру наивного сочинительства.
Еще я думал о Рите.
Наблюдая, как спокойно она уплывала все дальше и дальше, я задумался над этой чертой ее характера, способного на эту независимость и одиночество. Впрочем, у нее был Малыш. У меня никого не было.
Стас маялся на полке. Потом пошел знакомиться с герлами из соседнего купе. Притащил от них “Кола Брюньона”. Прочел заодно и его.
Смотрю в окно. Каждый пассажир в этой стране - шпион, что-то узнающий о ней, что знать, может быть, и не надо.
Все города в совдепии начинаются одинаково: с бесконечных заборов и гаражей. Заборы обрастают навесами, к ним прилепляется стена с облупленной штукатуркой, под навесом появляется вагон на вечном приколе. Полотно пересекает - столбенея перед ним, как Иордан перед бегущими евреями, - тощая автострада, на которой понуро стоит захудалый автобус и несколько частников. Вклиниваются и учащаются низкие серые ящики придорожных домов с натыканными в ряд пустыми окнами, словно линзами на носу слепого. Потом начинается сам город, одинаковый от запада до востока, на десять тысяч километров.
Мы вернулись в предфестивальную Москву. В метро на всех щегольские униформенные куртки западного вида. Что и обеспечило их широкую утечку.
- Ну, значит, такая уже висит у меня в шкафу, - стебется Стас - и попадает в точку.
А у меня дома - пусто. И тоска. Мне страшно туда возвращаться. Зачем я так спешил вернуться?! Мой жалкий дорожный оптимизм был посрамлен. Но все равно.
Ворота сладчайшей росы
Ищу я всю жизнь по мирам:
Во взглядах и фразах пустых,
В излуках чужого ума.
Лесов ученик и полей -
С неясной заботой души,
Любых прихожанин церквей,
Приверженец культов чужих.
Певец и поклонник давно
Таинственной девы-Луны:
Как будто мы в мире ином,
Вином и метелью пьяны.
И пусть я увижу к утру,
Что нет ничего впереди -
Я знаю, что верно иду,
И что я не сбился с пути.
Часть 4. ЛЮДИ ИЗ УЩЕЛИЙ
Где-то около часа мы тащились за прицепом с каким-то комбайном, множа неудачные попытки его обойти, неизменно заканчивающиеся крепким словом водителя, так что у нас были все возможности хорошо ознакомиться с сельхозтехникой
- Московские водители самые фуевые, - поведал мне мой шофер после очередной неудачи с обгоном. Проблема сводилась к моральному облику обгоняемого, а так же (почему-то) милиции.
В конце концов, прицеп с гигантским богомолом поднажал, оторвался от нас и навсегда исчез вдали.
Так же промелькнул и исчез разрушенный задонский монастырь, поделенный между овощехранилищем и больницей...
Водитель велел налить себе квасу. Выпив, он передал крышку-кружку мне и... - российские дороги малоподходящи для питья с рук, - пришлось признать мне, облившись с ног до головы. По штанам текло, в рот не попало.
С наступлением ночи все правила движения перестали соблюдаться. Каждый выжимал из машины все ей доступное, и когда мы под знаком 50 шли 90 - мимо нас птицей пролетел трейлер - и только красные огни еще недолго мелькали вдали.
Меня уже страшно рубило. Мелькала бесконечная решетка выбеленных понизу тополей, обозначая приближенность к югу. Борясь со сном, я вспоминал нашу с Ритой любовь. Это слегка взбадривало - на минуту-другую.
На указателе возник загадочный город Г-Деж. Писался он через дефис, видимо, с целью отмести ассоциацию с частью речи. Мне почему-то пришла на ум глупая песня про Вологду. Потом загадочный Г-Деж обернулся банальным, хотя и неочевидным Георгиу-Дежем, необязательным в этой донской степи. Честь, оказываемая лишь умирающим лидерам дружественных правительств, меня же преследующим и по месту жительства, и по месту работы.
Дорога дает мне увидеть страну посреди труда. Тяжелое зрелище. Унылое упорство. Кажется, будто ею владеет страх голодной смерти. Лишись страна на один день их труда - и всему придет конец. Может, это не осознанный страх, а, скорее, ощущение долга, выработанная привязанность, солидарность усилий, каждое из которых ничего не значит, но в целом кормит этого экономического монстра.
Наверное, мы лишены даже подспудно этого страха голодной смерти, и пафос малых дел не затрагивает нашего целомудренного сознания, для которого - или я несу все, или я совсем свободен.
Вечер, холод, водитель читает газету. Закат. Машина, ставшая кладбищем мошкары. Водитель моет ноги в кабине, а потом выливает воду под сиденье, заодно помыв и пол.
Два “счастливого пути” в сотне метров один от другого: пунктуально осуществленная инициатива двух колхозов.
Столовая без воды, зато с двумя плакатами бок о бок: “Хлеб - наше богатство, береги его” и “Хлеб - богатство, его береги, Лишь сколько надо к обеду бери”.
Разговоры в пути. Главное: осажденный Киев после Чернобыля. Все тревожатся о знакомых, сидящих там с семьями, несмотря на предложения друзей и сознание опасности. Экстремальность повседневной жизни.
В Краснодаре я встретился с Ритой и Малышом, приехавшими на поезде. Ночевали у знакомой с необычным именем Луиза. Это странная одинокая женщина в двухкомнатной квартире на берегу реки Кубань. Она преподает в местном университете и даже в брежневские времена не скрывала своей религиозности.
У нее дома за чашкой чая встретились с краснодарскими демократами-антисемитами. Умные образованные люди - пороли такую чушь! Везде окопались евреи: в издательствах, институтах, учреждениях - и давят русских. В правительстве тоже еврейское влияние - через евреек-жен.
Такие разговоры страшно невежливы и чреваты недоразумениями: поскольку графа в паспорте предварительно не выясняется. Их это не страшит, видимо, моя русскость написана у меня на лице.
- Вы мне говорите вещи, о которых я знаю с детства: “Среди трех богатырей, Илья Муромец - еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи...”.
- Что это? - спрашивают они.
- Школьный фольклор.
Они проповедуют национализм и российскую воинственность (Сергий Радонежский). Я говорю, что наше коммунистическое правительство стоит ругать уж никак не за евреек-жен. Они возражают, что я не понимаю связи. Я в ответ, что среди моих диссиденствующих друзей - куча евреев.
- Они добиваются права на выезд.
- Зачем им уезжать из принадлежащей им страны?
Гости ушли разочарованные: они говорили так смело, как единоверцу, а попался, вероятно, скрытый жид.
Вечером Луиза рыдает на кухне. Неужели из-за наших расхождений во взглядах?
Утром мы беседуем о жизни. Она прогрессивнее и свободнее моей тещи, но ей тоже не понятно, чем мы живем - и зачем: тусуемся, носимся по стране, не борясь с совком, но и не вписываясь в него, не принося никому пользы и даже не развивая культуру?.. Она ее развивает, вопреки сопротивлению партийных мракобесов.
Краснодар мне почти “родина” - здесь недалеко родился мой отчим, захолустный, полудеревенский, весьма милый город. По обочинам дороги ничейные абрикосовые деревья, ломящиеся от спелых абрикосов. Даже нагибаться не надо. С чистой совестью объелись на год вперед.
Искупались в городском пруду и сели в поезд до Сочи. Любимый мой когда-то город. Я не был здесь девять лет (не считая одного дня проездом - четыре года назад), но знаю наизусть. Все такой же, начиная с вокзала: удивительного, с ошпиленной башней, арками на сталинско-флорентийский лад, фонтаном и пальмами среди серых камней, словно советская тыква под южным солнцем превратилась в дворец. Лишь больше кавказцев и каких-то жуликоватых людей стало ходить по этому дворцу. От него на электричке, не задерживаясь, мы рванули в Гагры. Из Гагр на автобусе № 5 доехали до Пицунды.
Девятнадцать лет назад я жил здесь в лучшем на побережье только что открытом интуристовском санатории и прятался от поданного на обед коровьего языка под стол. Но годы прошли, и мне совсем в другую сторону. Остановка “Рыбзавод” (конечная). Оттуда маршрут - пехом вдоль моря, по камням и по воде.
Во втором ущелье мы прошли через университетский туристский лагерь: двухэтажные деревянные корпуса с верандами и масса плохо организованного народа, на длинном поводке к ним (корпусам) пристегнутого. Орут, прыгают в море, играют в волейбол - и без остановки флиртуют. Мы с брезгливостью миновали лагерь как зараженную зону.
В ущелье два-с-половиной мы увидели первых волосатых. И наконец, после серьезного водного штурма, занявшего добрый час, вошли в знаменитое “третье ущелье”. (Есть еще “четвертое”, уже совершенно дикое, для высокопродвинутых людей.)
Поставили палатку над ручьем под деревьями. В воздухе легкое напряжение: представители власти здесь - в роли стражей заповедных мест, от хиппи и туристов. Хиппи рассказывают про мордобой в местных ментах с последующей парикмахерской экзекуцией. Чтобы не попасться в городе - туда посылают самых нестремных. Встречаюсь с прижившимися здесь людьми, уже давно со своим миром, историей, эпосом. У них своеобразный стиль общения, с передразниванием местного абхазского акцента и комическим прибавлением ко всем существительным приставки “а”: “Мы пошли в агастроном... Залезли в апалатку...”. У них свои обычаи, свой способ существования и общения с окружающими. Огонь и приготовление еды значат для них очень много. Многое значит - чужая щедрость и даровые подачки (как правило, от туристов). Многое значит созерцание и лень, голод и холод. Я обнаружил их стоянку совсем рядом с легким и организованным отдыхом обычных туристов, унаследовавших все болезни мира, скучных, рациональных, негероических.
Я сидел у костра вместе с ними, уже одетыми на ночь в разнообразные закуты, в колокольчиках, шляпах, с палками, сигаретами и рассказами, умиротворенными, загорелыми, полными укоренившегося в них быта - около вечно не закипающего чайника их вечного чаепития. Их спокойный, неспешный разговор, дышащий откровением, случившимся с ними здесь.
Я узнал про отшельника, живущего на горе (значит, был кто-то, продвинувшийся дальше них), про человека, живущего в расщелине, про семидесятилетнюю балерину, живущую здесь круглый год прямо на берегу со своим хозяйством и своей железной кроватью, являющейся одновременно домом (стоит лишь натянуть через спинки целлофан), про бродячих психологов и одичавших журналистов. Всем нашлось место в этой колонии. Без денег, без вещей, кроме тех, которые они раздобыли здесь, с полным побережьем друзей и знакомых, с туристами и вином, книгами и редкими денежными переводами, городом и милицией, подстерегающей там, и пограничниками, налетающими сюда и борющимися с палатками. И все равно - прекрасная, затягивающая жизнь.
Существовала не только хипповая теория, но и хипповая практика - и это было самое интересное. Люди обустраивали свой быт, чтобы он был удобен, неожидан, небанален. Им было интересно заниматься “бытом”, потому что это было искусством: шить себе одежду, переделывать и украшать дом - чтобы существование стало игрой и праздником. Они владели самыми простыми вещами и трудились хоть не на износ, но постоянно, а их считали бездельниками и пустобрехами. Они производили свою бытовую революцию, освобождаясь от ненужных вещей. Бытие, тяготеющее к самообслуживанию, сталкивалось с бытием, тяготеющим к излишеству и красоте, порождая удивительные химеры.
Один из моих новых друзей сидел три дня на скале и спустился успокоившийся и просветленный. Другая упала с обрыва в ручей и попала в больницу, но через три дня опять была здесь - здоровая. Одного подстригли,* другого избили и сорвали крест, когда он ждал разговора на переговорном пункте. И опять я узнаю, что кого-то увезли, кого-то ограбили, кого-то спасли и накормили, кто-то напился и его мутило с голодухи. Вспоминают о том, как за ними приплыли на катерах - допрашивать, и у кого-то переписали документы, в то время как другие убежали в горы и смотрели сверху. Тут можно уйти и спастись даже во время облавы. Это и есть их эпос.
Время проходит в беседах. Все они прекрасные рассказчики. Мастерство это здесь шлифуется и доводится до совершенства.
Девушки, давние знакомые, давние спутницы моих друзей, неожиданно изменили маршрут, поехали с сестрами и родителями в дома отдыха, на турбазы или остались дома, а их мужья скитались и ночевали под открытым небом, попрошайничали, загорали и бродили по берегу пустого синего моря
- Мы попрошайничаем деньги, чтобы не попрошайничать время, - говорят они.
У них уже не было имен, не было собственности, не было времени. С ними было трудно, если не живешь точно так же. Сочетая невежество и простоту с утонченной образованностью, они жили без часов, без распорядка, легко жертвовали планами - ради каприза спутника или личного произвола и притягательности пляжа.
- Захотелось поработать: ляг поспи - и все пройдет, - говорит вильнюсский Егор.
Нарушение привычек начиналось с самого утра: никакой организованной попытки встать. А после завтрака, состоявшего порой из мидий, одно единственное слово поднимало вдруг пять-шесть человек - отправиться еще дальше - за край горизонта, образованного утесом, как на край света.
- В следующем году тут уже будет без маза. Менты обещают закрыть четвертое (хипповое) ущелье, - говорят они с эсхатологической интонацией, будто оно и так уже не “закрыто”, как и все доступное побережье.
Но до следующего года еще далеко.
Дима и Иннокентий (Ник) договариваются играть джаз.
- Давай, - говорит Дима, - это надо. У нас в городе все такие снобы. А как что-то сделать - никого нет.
Вместе с ними сидят водолаз Макс и Андрей со страшными синими ногами - от советских кроссовок. С этого момента его местная кликуха: Синенький.
Дима объясняет причину последнего увоза:
- Свинтили двадцать человек. Приехали с автоматами. Когда мы побежали, один козел перетряхнул затвором. Лишь поэтому мы и остановились.
- Ерунда, у него наверняка не было патронов. Им не выдают, - говорит Честный, отбарабанивший недавно лейтенантом после колледжа.
- Может быть, но не хотелось проверять. Ты знаешь - это сильно действует на нервы.
- Вы могли пожаловаться. Ничего себе - перетряхнуть затвором! Они не имеют права. А вдруг у меня слабое сердце, и меня кондратий хватит? Надо было написать на них телегу.
- Без толку. На нее насрут, или она будет сто лет гулять. Ты же знаешь: в этой стране все так устроено, чтобы никакая жалоба не дошла по назначению.
- Только хуже бы было, - философски говорит Ник. - Началось бы следствие, разбиралово, выяснялово - а где вы работаете? Вот было б клево!
- Потом нам сказали убираться из города. Все разъехались кто куда. Мы с Джоном перенайтали на вокзале и назад.
- А как нас в Судаке винтили в прошлом году! - говорит Ник. - Нас тоже было человек двадцать. Они пригнали автобус, кучу полиса. А мы говорим - никуда не поедем. Сели, взялись за руки и стали петь. Они и уговаривали, и угрожали. И тут, приколитесь, нас отдыхающие отмазали. Окружили всех, человек сто или двести, и стали защищать перед полисом: “Зачем вы их уводите? Что ж, если они с крестами, то им и на пляже появляться нельзя?” В конце концов они уехали, но забрали наши паспорта. Велели прийти на следующий день в городскую комендатуру. Сказали - к часу, мы приехали в три. И еще два часа срали нам на мозги. Там гебист был странный, стал нас сортировать. Я был там с дядей. Он не волосатый, просто решил попробовать так жить. Он учился в школе для музыкально одаренных детей. Клевый музыкант. Гебист ему: “А ты, не волосатый, отойди - чего к ним подбиваешься? С ними все ясно, они враги. Их можно уважать. А ты кто? Лучше не путайся здесь”. Потом они перетряхнули наши рюкзаки, все отдали, кроме кассеты, где мы с дядей записали антисовковую песню. Я стихи сочинил, а он музыку написал. Они ее прослушали, послали телегу ему на работу, и его выперли. Он в ящике работал. Потом мы беседовали с этим гебистом. Он мне говорит: “Ты думаешь, мне самому все нравится?” Это после того, как я ему сказал, что всех бы их расстрелял. Он мне отвечает: “Я сам многих бы расстрелял. Мне самому многое у нас не нравится.” Я говорю: “Только нам, наверное, разные вещи не нравятся. Скорее, даже, противоположные”. Он, наверное, говорил про тех, кто плохо работает.
- Конечно, - кивает Принц, - про пьяниц и карьеристов всяких сраных.
- Кто-то обошел его, вот он и злится, - говорит Таня.
- Да нет, для гебиста он клевый мэн. А вот в Симферополе, куда нас все-таки вывезли в автобусе, с нами совершенно вывихнутый говорил. “Если, - говорит (Ник передразнивает интонацию вывихнутого), - кто-то из вас когда-нибудь здесь мне еще попадется, то упеку на месяц в триппер-бар, где у вас обнаружат триппер, сифилис и вшей”.
- Обнаружат, как пить... - бросает Егор.
- Потом нас всех посадили на поезд, каждого до его города, паспорта отдали проводникам и велели выдать по прибытии. Но мы уже на следующей станции все вышли, смитинговались и поехали на Азовское море.
- А ксивы?
- Проводники отдали, нужно им очень возиться. Как поезд отъехал, пришли и говорят: “Нате, ребята, в жопу ваши паспорта, в гробу мы видели ваших ментов...”
- Ништяк!
- Ништяк! А на Азовском море нам говорят: “Здесь погранзона, уе...айте отсюда!”
- Как? С кем там граница?! - изумился Дима.
- С Черным морем, наверное, - предполагает Макс.
- И вот, как бы там ни было... В Судаке нам говорили: “Здесь вам нельзя, местные жители не привыкли, они вас будут бояться. А интуристов у нас нету”. В Симфе говорят: “Здесь есть интуристы, и вам нельзя показываться”. В Приморске говорят: “Здесь погранзона неизвестно с кем...” Мы там протусовались три дня. Ужасный городок: черный асфальт и вишни.
- Зато, наверное, вишен нажрались, - говорит Шуруп с завистью.
Шуруп рассказывает о побеге под Выборгом. Бежал через болота на Кольский полуостров. Егор из Вильнюса говорит, что бежал дважды. В своем Вильнюсе он работает мусорщиком. Его ближайшие планы: доехать стопом до Дальнего Востока.
- Хочу обмыть рожу в Тихом океане, - произносит он время от времени, как присягу.
Егор умный мужик и, видно, любит читать. Но здесь он ничего не читает, как и почти все.
Каждый приезжий kid привозит сюда что-нибудь новое в плане опыта, сведений, познаний, талантов. Парень из Минска рассказывает о Чернобыле. Факты почти с места событий. Объясняет технологию этих реакторов и причину того, почему не смогли отключить систему.
Генрикас из Прибалтики - рассказывает о трипе по Азии:
- Там прохладнее...
Я рассказываю о встрече в Краснодаре. Все стали говорить о славянофильстве и антисемитизме. Только брось тему: базар всходит как на дрожжах.
Синенький - друг Малыша. Возится с ним, как с родным. Мягкий и кроткий, с маленькой бородкой, как у кн. Мышкина. Багира пытается его соблазнить. Он в ужасе шарахается от нее.
Багира - та самая барышня, что свалилась со скалы (или с дерева - все рассказывают по-разному), девушка-ураган. Мы все здесь слегка ненормальные, но она - совершенно чокнутая. Тусовка все время в напряжении: что она еще выкинет, с кем поссорится, на кого обидится и подерется. Говорят, что и со скалы-дерева она не сорвалась, а нарочно прыгнула.
Пока люди владели собственными угодьями, их власть не обязательно распространялась на свободу передвижения по ним - до полной неприкосновенности к ним чужих пяток. Требования могли выдвигаться в пределах неформально-человеческих и самими личностями удовлетворяться: “Halte! Штраф за проезд через чужое владение. Стакан чаю!” (Бунин, “Сосед”.)
Ныне неведомые выскочки от государственного корыта, пользуясь пачкой удостоверений и бумаженций, беззастенчиво накладывают свою лапу на удобные им географические точки, понимая природу и среду лишь в качестве продолжения материальной сферы государственных интересов, дающего право на любое отторжение. От этого божественного права и происходят нелепые требования, как неизбежное следствие капризного желания попользоваться на дармовщинку чем-нибудь исключительно ценным, оттесняя плечом других, не подкрепивших своих прав столь надежно.
Есть тут инструктор, приехавший с туристской группой из неведомых мест, но сам страшно властный и конкретный, претендующий на владение ущельем. Он даже показывает нам какие-то членские книжки и дипломы: совершенно сумасшедший тип.
- Это я делаю для того, чтобы вы знали, с кем имеете дело.
- Вы не стали от этого лучше, - отвечаю я.
- Да? Ну, так вы покажите документы, которые бы подтверждали, что вы можете здесь быть.
- Зачем это? Какая разница, какие у вас есть бумаги и каких у нас нет? Все это глупо и нелепо, неужели вы не понимаете?
- Ах, у вас ничего нет! Тогда почему вы ходите здесь с таким видом?! Вы здесь не имеете никаких прав. Я могу уехать и вернусь не один, и вы в одночасье исчезните отсюда.
- Вы что здесь, царь и бог?
- Да, я царь и бог!
- Не много ли на себя берете?
- Нет, сколько надо. Я вам могу доказать, что имею на это право.
Ну, надоел! Я говорю:
- Покажите документ, где написано, что ущелье принадлежит вам. - Он мне сует эту абракадабру. Он бы еще квитанцию из прачечной показал. - Мне это не интересно, - говорю я и собираюсь уйти.
Он кричит мне в спину:
- Иди-иди отсюда, убожество! Твои ровесники погибают в Чернобыле, а ты здесь прохлаждаешься!
Господи, как я хотел врезать в эту тупую, преисполненную уряднической власти морду, уверенную в своей правоте. С ненавистью я изложил это все Егору, системному Гераклу, бывшему боксеру, и тот вызвался сделать это за меня. Я отказался. Но до чего доходит мстительность урода: сам-то он тут, а мне надлежит быть в Чернобыле, будто в угоду ему устроенном, чтобы и на “ровесников” нашлась проруха. Их надо сделать побольше, Чернобылей с Афганистанами, а то ему не дает покоя факт моих ровесников как таковых, ходящих по этой земле.
Он тоже не стар, и непонятно, что он, такой сознательный, делает здесь, у теплого моря? И разве не видно, что я не настоящий советский “ровесник”, охотно закрывающий чужие амбразуры?
Впрочем, к его утешению, мы вскоре сменили место: туристское окружение, шумное и мельтешащее, нам тоже не нравилось. К тому же вдоль ручья гулял беспрерывный ветер, задувающий едва разведенный костер и морозящий по ночам - так что утром у Риты поднялась температура. Ей нашли градусник для измерения температуры воды - за неимением другого. Все бы ничего, да стоило вынуть его из подмышки, чтобы рассмотреть результат, температура немедленно падала. Рита лежала целый день на берегу, закутанная в одеяло, жарилась на солнце, с альтернативой получить солнечный удар. И к вечеру ей стало лучше, а на следующий день она уже купалась.
. . .
Теперь наша палатка стояла на горе - в начале последнего, “четвертого”, ущелья. В густом первобытном мраке ближайшая к нам дикая туя на склоне светилась, как новогодняя елка: по ночам она становилась жилищем светлячков - вся просвечиваемая насквозь голубоватым светом.
Сидим над морем на скале под сосной у маленького костерка и читаем “роман” Гарика Рижского. Безыскусное повествование о его встречах на дороге, об одном спецприемнике, о другом, беседах с ментами, бродягами и уголовниками в камере. Он проповедовал им Льва Толстого, непротивление и Бога. Удивительно, как много он вынес - без всякого ущерба для себя. Написано почти примитивно, но с большой искренностью. Литература, сделанная лишь из душевной чистоты. Он относился к происходящему без обид, амбиций и гнева - просто пытался объяснить что-то: нам, читателям, и им - сокамерникам.
Шуруп загорелся:
- Я тоже могу так писать.
Стал воображать себя писателем. Ему есть что рассказать, как и любому тут.
Нас посетил мент в штатском. Предупредил о возможности и праве применить оружие. Невежественный и какой-то деревенски отсталый. Случайно разговор сбился на рыбную ловлю и грибы. Обнаружился знаток и страстный любитель, на чем и помирились.
На следующий день эсминец долго маячил на горизонте, прочертил взад-вперед военный вертолет, пробежали по верхней тропе пограничники.
- С кем воюем? - спрашивали друг друга волосатые, пожимая плечами на эту боевую готовность.
И в середине дня - из катера вылезло пять мужиков. Они претендовали быть представителями закона в наших ущельях. Но удостоверений не показали, и никто не назвал фамилии. Лишь форма на одном из них и агрессивная манера держаться подтверждали их род занятий.
- Вы видите, на мне форма, - говорил мент. - Какого еще удостоверения вам надо?
Начали не с пулеметов, а с замечаний морального характера:
- В каком виде вы сидите?! - обратился один из ментов к Тане. Она была в засученной до груди майке.
- Я, кажется, на пляже, - великосветски и с достоинством ответила Таня.
Они перешли к общим фразам о праве на отдых и удовольствия. И это звучало навязчиво и неуместно. Потом последовало: “Документы!” - на что я огрызнулся, что не держу их в плавках. Мне было велено сходить за ними. Но прежде, чем я успел найти и вернуться, один из ментов сам забрался ко мне в палатку с обыском:
- Показывай свои вещи, может, у тебя оружие. - Не поленился даже в плавки заглянуть: документов не держу, зато вдруг прячу там гранаты?
В это время на пляже происходила другая сцена. Расслабившись на солнце, волосатые не спешили приносить паспорта.
- Макс, ну, сходи за ними, - нехотя попросила Багира.
И тут мент взорвался:
- Вы думаете, я приехал смотреть, как вы нежитесь на солнце?! Встать! Встать!
Не спеша поднялись, не спеша принесли документы.
Пока, как рассыпанные грибы, собирали паспорта, мент в рубашке наехал на меня насчет работы, военнообязанности. В ответ я стал дерзить:
- А к чему эти вопросы? Это праздный интерес или уже допрос?
- Собирайся, - сказал обиженный мент, - надевай штаны.
- Зачем?
- Поедешь с нами.
- Куда?
- В Пицунду.
- Зачем?
- Неважно. Одевайся.
- А я все-таки хочу знать: зачем?
- Я же сказал: не надо задавать вопросы. Одевайся и все.
- Не поеду, пока не узнаю причину.
- Хорошо. У меня вызывает сомнения фотография в паспорте.
Я переглянулся с Ритой. Считать ли это за достаточный повод или продолжать спектакль?
- А назад привезете?
- Привезем.
Пустой вопрос. Лишь демонстрация призрачной силы: я ставлю условия, они соглашаются. Заодно лишняя ложь на их лживой совести: ведь обманут. Да я и сам доберусь, лишь бы отпустили.
Менты стали переписывать паспорта.
- Значит, вернут, - сказала Рита с облегчением.
В этой стране быть без паспорта - стрем первостатейный. Спецприемник, хайрание, камера с уголовниками. Поэтому за забравшим паспорт ментом бегаешь, как пес на поводке.
- Да пусть забирают, - говорит Егор беспечно. - Тут из Гудауты приезжали, забрали паспорта, говорят: явиться к такому-то. А мы не явились. Потом они сами приплыли, вернули паспорта. А мы без паспортов неделю жили. Лейтенант с погранцами приходит: ваши документы! А мы: ступайте у ментов спрашивайте.
Рита глядит с уважением. Это тертый народ, врасплох их не застанешь, будто старых зеков. Все к лучшему. Никакого пиетета к документам, так много значащим в жизни. Ну, пока ты тут, многие привычные вещи действительно выглядят иначе.
Я был вызван криком к кучке сидевших в тени деревьев ментов и сподобился душеспасительного внушения, за терпение слушать которое я выторговал себе право никуда не ехать. Они посчитали, что я и так достаточно унижен за свой гонор: беседа сопровождалась скверным эхом в виде угрозы получить пятнадцать суток за нарушение паспортного режима. “А как же туризм?” - ловлю я их. Они противоречили себе на каждом шагу, выдвигая все новые доводы, почему должны подвергнуть нас остракизму. В одну кучу мешалась и погранзона, и запрещение дикого туризма, и решение гудаутского исполкома. В конце концов, когда въедливый Егор разбил все их доводы, нам по секрету было сообщено: “Вы умные люди, должны понимать, кому вы мешаете...” - и последовал кивок в сторону недосягаемого пятого ущелья, а так же “шестого” - Сталинской дачи и правительственного санатория за скалой. Полной насмешкой прозвучал потом упрек в антисанитарии, угрожающей нашим детям и женам, и предупреждение о скрывающемся в пещерах опасном уголовнике, угрожающем нам самим. Мне даже пригрозили изнасилованием (старый довод). Я поймал их на слове, когда они распространялись о своем миролюбии, и выговорил для всех семь-восемь дней без налета.
Но после этого - крышка! Если кто-то попадется, легко не отделается.
В тот же вечер, выйдя из моря, Шуруп сказал:
- Другим остается семь дней до конца заключения, а у нас семь дней до конца свободы.
- Это тебе в море пришло в голову? - спросил я с завистью.
Распропагандированный в том, что ксивы - это мусор, о чем весь день судачили волосатые, Малыш собрал паспорта, развешанные по веткам, - для быстрейшего, в идеале - заочного - общения с ментами, - и стал жечь их в костре - еле успели спасти.
Багира принесла хавку, но закопалась на берегу и осталась без еды. Обычное дело, вызвавшее в команде смущение.
- Ну, ты сама, Багира, виновата. Десять человек ждут одну, а ты тусуешься где-то.
Багира в ярости. Весь вечер шипит и ругает волосатых. Но никуда не едет. Куда уж отсюда уедешь?
Они ворвались на стоянку с ранья, через два дня, вопреки договоренности: три пограничника и милицейский офицер. За отказ сбросить палатку на Риту и Малыша - и самому себя выпороть ради удовольствия распоясавшегося милитариста - офицер пообещал мне пятнадцать суток ареста. Ругань, мат, пинки и физические способы устроения действительности на свой солдафонский лад - шли в унисон и крещендо. Солдат стал валить палатку прямо на не успевшего вылезти Малыша. Я попытался объясниться с ментом, ссылаясь на договор с его коллегами. Ему было глубоко плевать. Он деловит, быстр и даже слушать не хочет.
Нас повели к катеру на берегу. Там уже ждало человек пятнадцать наших братьев. Перед самым отплытием - крик:
- Подождите, я с вами!
Это приехал Макс Столповский. Он подбегает и кричит:
- Нет, я не успел искупаться, можно? - и на глазах изумленных ментов кидается в море прямо в одежде, потом забирается в катер, и мы плывем. Все смотрят с интересом на Макса, а он рассказывает. “Человек, ночевавший под скалой” (это был Андрей Ангарский, накануне поссорившийся с Егором и ушедший из “четвертого”), предупредил его, что будут винтить (озарение, не иначе). И Макс рванул в самое пекло. Такое ощущение, что он за этим и ехал и рад приключению в такой хорошей компании.
Нас повезли по морю в Пицунду. Никогда так быстро и красиво, жаль лишь, что под конвоем и с нерадужными перспективами. В отделении нас ждало обычное скотское обращение: какая-то баба, вышедшая на нас посмотреть, сообщила нам, что таких бы сжигала, а охотно откликнувшийся мент - что расстреливал. Странный прием людей, которых впервые видишь. Мы с Егором попросили, чтобы нас не оскорбляли.
- А что с вами еще делать?! - удивился мент-рационализатор. - Вы же всем видом показываете, что вам все здесь не нравится.
- Ну, кое-что не нравится, - признался я.
- Значит, родину - не любите?
- Любить можно по-разному. Можно любить и критиковать. Был такой русский философ - Чаадаев, может, вы слышали? Он говорил, что не умеет любить родину с закрытыми глазами и преклоненной головой.
Честно сказать, родину я тогда и впрямь не любил, считая патриотизм “последним прибежищем негодяя”. И умчался бы из нее пулей, не оглядываясь, если бы мне на миг открыли дверь. Но сам для этого никогда ничего не делал, считая, что надо, чтобы и здесь оставался кто-нибудь на развод, не сомневаясь, что все само собой получится, когда придет срок.
Ментам мои доводы показались какой-то тарабарщиной, им стало скучно нас слушать, но мы не отступали, требуя соблюдения каких-то своих прав.
За что нас с Егором, а еще полного сил и куража Макса, не спорившего, а издевавшегося над ментами, на три с половиной часа заперли в карцер. Это ново и нестрашно. Мы все воспринимали как приключение. Кормить нас, конечно, никто не собирался, и маленький Малыш, единственный, кто был к нам допущен, просовывает нам через решетку еду.
- Три с половиной часа ожидания стрижки и сорок пять суток тюрьмы - вместо отпуска, - сообщаю я друзьям с веселым изумлением, жуя лаваш.
Из отделения часть группы, как они понимали - зачинщиков: нас с Егором, Макса Столповского и егорову Таню, отделив от остальных, повезли на суд в Гагры, где заперли в заброшенной комнате для судебных заседаний с горой старых дел до потолка, на которой мы стали отдыхать - легкомысленно попирая задницами надгробия человеческих судеб. Время шло, нас никуда не вели. Со скуки мы делали смехотворные шоу: махали, как флагом, шваброй с тряпкой, фотографировались под гербом, читали дела и угорали, - стараясь еще более профанировать происходящее. Наконец под присмотром охранников по очереди нас стали водить на долгожданный “суд”: в другую комнату с кавказским судьей в единственном числе, “распоряжающимся нашей жизнью и свободой”, как он сам велеречиво выразился. Ментовские обещания наркодиспансера и проверки веняков оказались туфтой. За исключением того, что туда направили наших друзей - на наши поиски. Вместо этого - суд, ничем не кончившийся, потому что милицию почему-то не удовлетворил. Нагнавший страху судья лишь слушал, не пытаясь возражать и опровергать мои доводы, тем более - когда я стал рассказывать про скидываемую на ребенка палатку и про другие ментовские приемы. Так он меня и отпустил, обещав вынести решение позже. Это позже не наступило по сей день (считать ли, что я с тех пор хожу под судом?). У нас были сильные козыри: мы живем в правовом государстве или нет? Мы требуем человеческого с собой обращения! Для ментов это пустой звук, но сами они решения не принимают. А для любого мало-мальски интеллигентного чиновника видна разница между нами и ментами с их корявым языком и урловыми прихватами.
Нас выпустили из суда - к соскучившимся приятелям. Итак, без документов, без крыши, в чужом городе, ничего не евши до пяти дня - мы пошли на городской пляж. В этом часу пляж был уже почти пуст. Мы искупались и стали вслух читать украденные дела, написанные безграмотно, со смехотворной пунктуальностью и нелепыми фактами - отчего были смешнее всякого Войновича. В приморском кафе добрая раздатчица, пораженная нами, продала нам после закрытия вкуснейшие лаваши. Поев, пошли гулять по прекрасному приморскому парку. Здесь на свободе ходят настоящие дрофы и фазаны. И мы, такие же экзотические и чужеродные, ходим мимо них, привлекая внимание прохожих. А как нам было хорошо в четвертом ущелье! Будто мы просили кого-то нас оттуда забирать.
Так мы гуляли до темноты и вернулись на пляж. Решение переночевать на берегу пресекли менты. Бродя по ночному городу, строили разные планы, где всей тусовкой найтать: от наглого вписывания в гостиницу (без документов) до установки палатки в центре большой городской клумбы. Кто-то предложил доехать до окраины, где темнее и безлюднее.
В автобусе к нам обратилась подвыпившая местная тетка: кто да откуда? Вкратце рассказали историю: теперь без паспортов, с детьми, ночью... Вдруг тетка предложила идти к ней: у нее дом на берегу моря и при нем большой сад, где мы можем поставить палатки. Ее не смутило даже то,что нас четырнадцать человек и что на ее остановке вышло пол-автобуса.
Мы пили чай в ночном саду и рассказывали друг другу жизнь. Она была местная учительница и ненавидела абхазов и их детей, один из которых пробил ей в прошлом году голову камнем. Тосковала по России и русским. Впрочем, она была весьма навеселе. Совсем ночью полезли купаться нагишом в море, начинающемся прямо за ее садом. Море флюоресцировало голубым светом, словно мы купались в фосфоре. Оно было теплое и ласковое, как сироп, и долго не отпускало от себя. Уже глубокой ночью мы поставили палатки. Доброте хозяйки не было предела: Риту с рассопливившимся Малышом и Багиру она поместила у себя в доме.
Багира завоевала ее сердце странным образом - без спроса залезла в шкаф и надела платье ее дочери. И как ни в чем ни бывало вышла в нем пить чай. Хозяйка изумилась, а мы накинулись на Багиру:
- Багира, ты совсем офигела?! Кто тебе разрешил? - а ну повесь на место!
Багира хлопала глазами, почти расплакалась. Хозяйка вдруг стала ее защищать:
- Леночка, ты, наверное, хотела быть красивой? Не надо, не снимай. - И оставила ночевать в доме...
Утром она встала хмурая, смотрела на нас обалдело, но не прогнала, как мы ожидали, а пока разрешила остаться, до урегулирования наших дел. Рите и Малышу она даже предложила не таскаться с нами, а остаться в доме. Рита отказалась.
К утру у нас еще не было никакого плана. Надо было ехать в Пицунду за паспортами, но начать возвращение туда мы почему-то решили с посещения гагрского городского пляжа, благо уже до него добрались. Чудесное море и новое знакомство с абхазским гостеприимством. На пляже разгорелся скандал: я стал по привычке переодеваться в открытую без кабинки. Нас окружила толпа: местные мужики готовы были убить нас за оскорбление своих детей, которым было абсолютно начхать. Они и сами бегали голыми. Женщины и пенсионеры предлагали “гуманную” альтернативу - милицию. Иметь дело с гагрской милицией после пицундской хотелось еще меньше, чем драки. В конце концов, мы как всегда всех убедили и примирили (с собой). Во всяком случае, ушли целыми. Вообще, ругань и сразу за ножи - кажется, абхазский способ приветствия. В Пицунде, куда я ходил за хавкой, ко мне то и дело подваливали разные темнолицие субъекты и предупреждали, чтобы я больше не показывался в городе, и даже грозили напасть на наш лагерь. Лучше других были два черноволосых полуурловых парня лет девятнадцати, подошедшие ко мне на площади у храма, где проходили органные концерты. Мы разговорились. Они попросили не смешивать их с местными жлобами, ненавидящими хиппи, и с милицией, которую ненавидят сами.
- Они нас тоже дрючат, - сказал я.
Парни согласились и сказали, что не испытывают к нам зла, а вот курортников они не уважают. Расстались, пожав друг другу руки...
Мы уходим с пляжа. Магнолии, пальмы, перспектива возвращаться за документами. Возможно, снова суд и тюрьма. Остается в силе и обещание постричь. Но вокруг: лукавые хиппи и сумасшедшая Багира.
И здесь нас посетила неожиданная идея. Пицундскую предопределенность мы меняем на свою свободу воли.
Изрядно проплутав, мы оказались у городской “апрокуратуры”. Самое странное, прокурор был на месте и принял нас. На несгораемом шкафу он держал гравюру Сталина и бюстик еще какого-то идола. На стене висел обязательный Горбачев. Под ним столь же обязательная для правоверного грузина футбольная таблица мирового чемпионата на местном языке, ведущаяся и заполняющаяся. На его столе стояла подставка под ручки с выгравированным на ней золотом подарочным автографом верховного прокурора СССР.
Живой, толстый и добродушный, скорее грузин, чем абхаз, скучавший в своем пустом жарком кабинете с распахнутым окном, он набросился на нас, как на деликатес. По неизменной местной привычке всечасно перебивая и сбивая, выслушал нас. Некоторых людей я видел в этом качестве - умных и спокойных адвокатов самих себя - впервые, и они мне понравились. Особенно Честный, которого я знал в ущелье исключительно по смешным рассказам об армии и комбижире. Он сидел перед прокурором города и спокойно, уверенно, очень аргументировано излагал суть дела. Мы в меру сил ему помогали. Прокурор был покорен нашей численностью, нашим видом, нашим напором. Тем, что мы были в основном москвичи, и тем, что с нами были женщины и дети.
- Я им сейчас позвоню!..
Он схватил трубку и разразился целой бурей слов своего смешного синтетического языка, где бесспорно понятно прозвучали: наркомания, палатка, американцы. Все три определения, видимо, относились к нам. Окончание речи было произнесено обнадеживающе по-русски:
- Не трогайте этих ребят. Я ухожу в отпуск и не хочу никаких больше жалоб.
После разговора он стал еще более сахарен, утишая былые обиды удовлетворяющими нас эпитетами “идиоты” и “идиотизм” в адрес своих правоохранительных коллег. Из обвиняемых мы превратились в свидетелей, ибо все грубости происходили на многих глазах, и четырнадцать человек это подтверждало. Он даже признался, что не будь у нас “такого численного превосходства”, начатое против нас милицией дело могло бы принять худший оборот. Он явно нам симпатизировал, называя людьми удивительными, никогда не виданными и симпатичными, несмотря на то, что и этих симпатичных людей он не смог не прозондировать на предмет трудовой занятости (впрочем, выяснилось, что все работают - сторожами, истопниками и т.д. - или учатся).
Тем не менее ушли мы обнадеженные, подкрепленные обещанием помочь нам вернуть документы, хотя без права возвращаться жить в Пицунду. Потом выяснилось, что и Гагры нас терпеть не собираются.
Выпив много чаю с хлебом и подобрав остатки с чужих столов, боевая группа тронулась на автобусную остановку в сторону Пицунды. И уже при отправлении потеряла Макса Столповского и Багиру, задержанных контролерами. Эти двое уже ходили всюду парой. Парой и погорели. (Багира, наконец, нашла настолько безумного человека, чтобы прельститься ею. Они друг друга стоили.)
В пицундских ментах нас как будто не ждали. Попытавшись по-вчерашнему, они встретили наш решительный отпор и завели пустой и идиотский разговор, напоминающий все те, что мы вели неоднократно в ущелье - с туристами, их инструктором, ментами. Возможно, они решили, что мы важные шишки и имеем протекцию.
Каждый из нас, испытывая сатисфакцию, пользовался случаем поучить ближнего и что-то добавлял к разговору:
- Вы бы не арестовывали, а приехали бы к нам на чаек, поговорили бы, тогда бы узнали что к чему. А то так грубо...
- Мы же сберкассы не штурмуем, ничего не воруем. Вы бы занимались своими “приличными людьми”, при галстуках, которые в Москве помидорами торгуют.
“Козел” и “постричь” сменилось на это безалаберное лясоточение с праздными милиционерами, которые в конце концов перешли на сепаратный и гораздо более им близкий разговор о футболе. Паспорта, впрочем, не отдавали.
Оказывается, нас держали здесь до прибытия начальника заставы, русского и, само собой, майора. Он не был груб, но не поддержал реноме, созданное ментами его заставе, якобы демократичной.
До вечера ждали спецавтобус и бегали на почту за письмами и переводами. Майор погрузил нас в автобус - и погрозил, приказав шоферу вывезти нас, не останавливаясь, не только из Пицунды, но и из республики вообще - до самого аэропорта Адлер, а там как хотим.
До Гагр нас конвоировал газик погранзаставы - делать им было больше нечего! У домика нашей благодетельницы мы велели шоферу остановиться, якобы забрать вещи, и здесь, сплотившись и окопавшись, выдержали генеральное сражение. Мы пустили в ход и прокурора, и права человека, дарованные конституцией, и “снимаемый” нами дом (цивильную привязку), и обещание скоро уехать. Идя нам на встречу, пограничники выдвинули унизительные контртребования: чтобы мы определили срок отъезда, а потом каждый день ходили регистрироваться на погранзаставу. Мы встретили это гулом удивления и возмущения. Но в целом атмосфера была мирная, и после подтверждения хозяйкой ее доброй воли на наше проживание, погранцы наконец убрались.
Через час они снова пришли и повторили для забывчивых свои требования (вероятно, хотели проверить, здесь ли мы еще, не растворились ли в воздухе).
Рано утром еще раз пришел офицер, молчаливый и покладистый. И мы успокоились. А через несколько часов подкатил разъяренный полис на машине в сопровождении двух женщин официального вида и еще одной, вероятно, ментовки в штатском. Обзывая нас козлами, обвиняя и угрожая, он ворвался в дом и поднял пинками спавших там. Задержанный во дворе, он упустил хозяйку, сбежавшую от него через заднюю калитку. Он долго разорялся: на нас, на хозяйку, незаконно впустившую нас к себе, отобрал половину паспортов. Другая половина отдать паспорта отказалась и затеяла бесконечную дискуссию, где мелькал и Берия, и прокурор, и милиция, и внешний вид, перемежаемые угрозами, требованиями и оскорблениями с обеих сторон. Морально он был забит: отняв паспорта, он сам мешал нам уехать. Решив покончить с этим, он вернул паспорта - на два с половиной часа, пообещав приехать к этому времени и арестовать неуехавших. Мы, конечно, могли испариться в любую сторону, но чаша терпения была переполнена. И мы с проклятиями покинули город в тот же день.
На прощание мы еще раз услышали угрозы: если когда-нибудь наша нога ступит сюда - каталажка и стрижка лишь малое и первое, что ожидает ее обладателя. Мент высказывает это витиевато в сторону младшего чина - таким образом обращаясь к нам, сидящим напротив, без паспортов, между небом и землей.
И все же жалко было покидать проклятый прекрасный город с чудесным дендропарком, единственной улицей Руставели вдоль всего города, прижатого к морю, - не Ленина, не Сталина, не Советской, с кипарисами, мороженым и лавашами, с удивительной хозяйкой и домом с ореховым садом, где ночевала тусовка.
В тот же вечер мы приехали в Сочи. Сочинский архитектурный стиль: сарай с трансептом и периптером. Здесь мы разделились: я с Ритой и Малышом поехал к Марье Андреевне, остальные в сторону Крыма. Но у Марьи Андреевны нас явно не ждали: вытянутые лица, вымученные разговоры, испуганные взгляды. Преданнейшая нашему семейству Марья Андреевна откровенно объясняет, как неудобно было бы нас оставлять. Я говорю:
- Вы посмотрите, ребенок болен!
- Ну, а я тут причем? Хорошо, только на одну ночь...
Мы развернулись и ушли. Сочи было окончательно проклято и забыто.
Делать нечего, мы поехали на вокзал. Путаясь среди откровенных взглядов и реплик местных толстых кавказцев, я посадил Риту и Малыша в московский поезд. Рита от обиды в слезах, просила не бросать с больным ребенком. Но я почувствовал, что из-за насильственно прерванного путешествия - не добрал впечатлений. А Закавказье так близко, и был страшный соблазн его покорить...
Для ускорения дела я сам поехал поездом в противоположную сторону, - не заезжая в Батуми, где меня встретили бы не так, как в Сочи. Впрочем, кто знает?
Утром был Тбилиси: те же самые южные дома с аляповато застекленными верандами вместо балконов, создающие хаос и чувство стихийно образовавшегося муравейника или цыганского табора.
Улица Леселидзе - главная магистраль с давних лет (от пл. Ленина). С первого взгляда поразило обилие аптек и магазинов с одеждой. Если хочешь современно одеться, обставить квартиру и подлечиться - приезжай в Тбилиси.
Но сюда можно ездить и за иным. Это удивительный по архитектуре город, где вкус вносится даже в самые ординарные постройки. Плюс специфический стиль. Плюс специфический климат. История и природа создали этот южный город, до сих пор пощаженный в своей редкой средневековой хаотичности, со скрытыми от глаз внутренними двориками, лестницами, лоджиями, галереями, балконами, нависающими над головой и прекрасно защищающими от дождя и солнца.
Грузины культурны и добросердечны. В кафе-столовой на площади идиота я взял двойную порцию макарон и кусок лаваша и пренебрег кофе и другими дорогими излишествами - в отсутствии дешевых. Двое грузинских юношей, за прилавком и кассой, отказались, не иначе как в компенсацию за гастрономические страдания, взять с меня деньги. Всего-то, наверное, выходило копеек 15, но я долго не понимал, чего они хотят, и, наконец, сердечно их поблагодарив - не за мою выгоду, а за душевный порыв, - сел наворачивать эту очень щедрую гору вермишели, к тому же с луком, читая одновременно купленного только что Тютчева (что тоже было радостно и удивительно).
Теперь у меня были силы плотнее изучить город.
Сиони - кафедральный собор, возведен в пятом веке, перестроен в тринадцатом.
Метехи - построен при царе Димитрии Самопожертвователе в 1278-89 гг., на месте древней церкви, погибшей при монгольском нашествии. Рядом - дворец грузинских царей. В 1746 царь Ираклий II с боем захватил метехскую крепость, находившуюся в руках то персов, то турок. И, видимо, восстановил право владения Тбилиси.
Церковь Эчмиадзин св. Георгия.
Норашени, заложена в 1793 г.
Джварис Мама, XVI век.
Я лазил по горам, по каким-то древним постройкам с шарообразными крышами, рассекал по улицам вдоль реки. У меня не было провожатого, и я все отыскивал сам, пытаясь понять душу этого города. Единственная за весь день неприятность: столкновение с местным полисом. Опять изловили, молодцы, матюгаются, стали допрашивать, требуя какого-то “отпускного свидетельства”. Я помнил батумских полисов 82-го года и их нежное сокрушение: “Будь я в штатском - трахнул бы...” - и ничего хорошего не ждал. Здесь у меня не было никого, кто бы меня отмазал. Но держался спокойно, зная их переменчивый и, в общем-то, пофигистский нрав. Разозлили, но отпустили (хотя пожелание “не обижаться” одного из полисов, наименее участвовавшего в операции, - существенно скрасило картину).
Егор дал мне телефоны в Тбилиси - неких Гоги и Джорджи, но я ими не воспользовался и в тот же вечер отправился ночным поездом в Ереван.
Вы заняты трудом, а я - умиротворением тех страшных сил, которые ваш безумный труд породил, которые родились из противоречия между красотой мира, человеческой свободой - и вашей бедной изнасилованной жизнью. Я оправдываю жизнь и мир хорошим к ним отношением, но вы называете меня эгоистом и тунеядцем, лишаясь последнего, кто способен восхищаться - и защищать мир и счастье жить!
Как раз подвернулось под руку тютчевское: “...Пускай служить он не умеет, Боготворить умеет он”.
Потрясающая новизна и красота здешнего мира - этих горных пространств Армении, привратников священного Арарата. Такую красоту я не видел нигде - только на картинах Рериха. Не видел даже на Алтае, где он их писал. Может быть, тогда я не забрался так высоко, как было нужно? Сейчас это было видно даже из поезда. Оглушительное голубое небо вершин, непереносимое солнце, а я всегда был солнцепоклонником! И в один тон с этой голубизной - мягко зеленеющие, чернеющие, голубеющие горы. Очень чистые, бездревесные пейзажи, обрывающиеся глубокими, бархатными силуэтами, ничуть не страшными, а как бы уводящими тебя в небо, подчеркивающими небо, как самые знатные приближенные его.
Тут все наполнено архаикой и священным духом. Священные могильники камней, лежащие по предгорьям. Сами горы, будто придуманные в мастерской богов и обдутые космическим ветром, священные уже тем, что завершали вертикаль земли, ее возможный богоборческий порыв, и выше их, на них ничего не может подняться и осквернить...
Вопреки горячему желанию, вопреки величественным пейзажам, Ереван оказался совсем не то. Даже не то, что Тбилиси.
Прямо от вокзала резала глаз грубая прямизна шоссе и бездуховная торжественность и громоздкость сталинской архитектурной мышцы. Город оказался вторичным, уничтоженным и воскресшим в тяжелом сталинском граните, стилизованном под что-то местное, но скорее как памятник невоскресшего былого, чем что-нибудь живое. Но это было все же лучше, чем какой-нибудь Полоцк или Новополоцк, где осуществлен тот же глобальный градостроительный эксперимент, но в хрущевском исполнении. Это был все-таки культурный восток, остаток духа великого народа с тысячелетними мировыми связями, которые помогли и Тбилиси, и Еревану преодолеть кое в чем даже совдеп.
Если в Тбилиси было много аптек, то здесь было много цветочных магазинов. Прочих магазинов здесь было меньше, но с кафеюшниками и продуктовыми магазинами здесь обстояло так же хорошо. Повсюду можно было посидеть, попить кофе, съесть мороженое и даже послушать какой-нибудь популярный там (и уже здесь) break-dance. Но столовых, где можно было бы дешево поесть, не было вовсе. Можно попить сок, даже молоко, съесть одно (или два) из бесчисленных кондитерских изделий, дорогих, но разнообразных и аппетитных. Как-то мне удалось все же позавтракать, бедно по ассортименту (я взял лишь рис), но, в отличие от Тбилиси, довольно дорого по деньгам. Но, самое главное, люди были весьма приветливы и в автобусе оба раза не взяли с меня деньги за талончик. Правда, прямо на вокзале какая-то русская женщина добрые двадцать минут поносила меня на чем свет: за нищий вид, за дурное влияние на детей и за убогость мыслей, приводила в пример Чехова - и получила от меня “Мою жизнь”, после чего свернула тему, призвав на мою голову нетерпимость общества, которое отнюдь ее не поддерживало. Потом какая-то армянка бесстыдно до феноменальности сунула деньги в кассу впереди меня, оправдываясь, что я русский, а она армянка (что невозможно было опровергнуть). Выглядела она, с точки зрения недавней пуританки, вполне прилично. Не знаю, как с точки зрения примера детям.
Больше меня никто не оскорблял - как оскорбляли на вокзале в Сочи. И, конечно, это была не Абхазия. В Ереване, в отличие от Тбилиси, весьма много книжных магазинов, но купить что-то стоящее я смог только в музее Матенадаран, где старинные памятники письменности хранились, а современные - продавались при входе.
Армянский алфавит был создан в 405 году Месропом Маштоцем. Древнейшая армянская рукопись: Лазаревское евангелие 887 года.
Сравнительно много для совдепа было и художественных салонов с неплохими интерьерами. Но в целом город был обезличен и некрасив, и я уехал в тот же день неудовлетворенный архитектурой, но весьма довольный тем, что узнал о жизни в центре армянской земли.
. . .
Приключения никогда не кончаются! Ехал, ехал в Баку - с любопытными неплохими людьми, с патриотическим восторгом рассказывавшими мне об Арарате-Масисе, мимо которого мы как раз проезжали. Они переживали, что его чуть-чуть закрывают облака и он не виден во всем великолепии. Они просили спрашивать, и я спрашивал: о высоте (более пяти километров, с постоянным прибавлением истории Ноя) и о ее территориальной принадлежности (ткнул в больное: хоть полусвободное, но их государство было здесь. А там - холокост 15-го года). Тщетно пытался разглядеть красный виноград.
- Красива? - спрашивают меня.
- Красива, вот только вторая вершина чуть-чуть портит.
- Это Алягаз. Ты не прав, нет, не прав.
Был среди них ереванский технолог-книгочей. Он долго распространялся о своей любви к книге (“тоже” - потому что передо мной лежало три, которые он без стеснения пересмотрел), поговорили об истории, которую он особенно любил. Я пошел нагромождать факты: Платон, Фрезер, Библия... (Остальные с сокрушением: “А мы почти не читаем...”) Потом в окно ворвалась граница, близко, можно рукой потрогать (первая граница в моей жизни): три ряда колючки с нашей стороны и ни одного с их. Небезызвестная река Арагва - место, где все проволоки и рубежи скоплялись в кучу у самого поезда, а до Ирана было пятнадцать метров воды. Я видел людей и машину на том берегу, обычную гражданскую машину. Вообще, оборонительный момент с той стороны был выражен очень слабо - лишь несколько отдаленных вышек, и совсем у границы - аул, в котором уже зажигались огни. Мои проводники по этому краю говорили, что местные жители, стоя вдоль реки, переговариваются друг с другом. Стреляют только с нашей стороны. И даже не стреляют, как было подчеркнуто, а убивают. С их же стороны не стреляют никогда. (Книжник родился здесь и с детства ходил на границу. Он же ругал меня, что я так плохо изучил местность и ереванские достопримечательности... Плохо изучил: я их просто не нашел!) Потом мы пили: они чай, я - кофе, которым меня угостил какой-то азербайджанец, купивший его в поезде и угощавший весь вагон (шиканул на халяву).
И так я ехал, ехал, мирно беседуя, через Араратскую долину, где “всегда неизменный климат”, в Баку - и не доехал...
Они ворвались неожиданно, с автоматами со сложенными ручками, с кобурами и сумками на боку, в тактически грязной амуниции, при офицере, и встали на каждой площадке по двое, и на каждой станции стали проверять всех выходящих, задерживая тех, кто не имел пропуска в пограничную зону. До этого я уже видел пограничников - на платформе, но не придал значения.
С оружием, в форме - они стали проверять паспорта у всего вагона. Но взяв мой - забыли про всех остальных.
Вместе с офицером они судили и рядили над моим паспортом, придирались и выспрашивали. И отдали с подозрительной неохотой. Потом я о них забыл, глядя на чарующие столбики, - и напрасно. Эти столбики стояли метра через два и были почти столько же в высоту. И под током, как объяснили мне “старожилы”. Проволока действительно была прицеплена очень плотно, на первой линии даже намотана клубками во все стороны. Потом нас ослепили прожектором, стрелявшим с вышки метрах в двухстах. Он шандарахал по поезду прямыми попаданиями все время, пока тот шел мимо.
Я сходил за вторым чаем, и бравший взятки проводник-азербайджанец, обещавший отличное обслуживание, не очень проворно мне его дал. И я уже его допивал, и достал сырок с куском лаваша, когда пограничники появились вновь, пожелали приятного аппетита и поинтересовались, когда я закончу, чтобы пройти с ними. “Тогда вам придется подождать”, - сказал я. Они отошли в тамбур, и я выполнил, что наметил.
Потом меня обыскали в купе проводника. Отобрали документы и приказали высаживаться из поезда. Вернувшись в купе, я встретил откровенное сочувствие: мои соседи советовали мне не нести рюкзак, пускай сами несут. Две девушки из соседнего купе советовали вообще не ходить, мол, за что? - они не имеют права! Они дошли до откровенного бунта, хотя одна призналась, что против СССР ничего не имеет. Они даже отправились к начальнику отряда применять чисто женские методы, не возымевшие, однако, действия. Когда меня уже высаживали из поезда, одна из них моей ручкой написала мне свой бакинский телефон и потребовала обязательно позвонить, когда бы я ни приехал.
Мой рюкзак и правда взяли и несли за мной отдельно. Я нес только сумку с хавкой. Платформа была пуста, лишь тут и там стояли группки вооруженных пограничников. Меня подвели к одной из них: оказалось, что задержал и обыскал меня старший всего этого атакующего отряда.
Это была Нахичевань, знакомиться с которой, при всем своем стопном угаре, я не мечтал ни сном ни духом. Поезд все стоял, сгустились сумерки. Но возвращать меня в него не торопились, так что возникала проблема ночевки (я не думал, что за меня возьмутся всерьез и промурыжат долго).
До отхода поезда я служил развлечением для солдат, со все теми же: откуда, кто, почему, зачем волосы, какой веры и чья фотография в паспорте (“Твоя девушка?”)? Выяснилось, что один из них до армии носил “почти такие же”, что, видимо, должно было сыграть мне на руку. Но с отправлением поезда, когда они все снова запрыгнули на ступеньки тамбуров, - меня посадили в кузов военного грузовика (“Без комфорта, но что ж делать...”) и минут двадцать везли в часть. Мы сидели втроем на доске, высоко подпрыгивая на ухабах. Ночлег под крышей, похоже, сегодня был мне гарантирован.
По приезде меня впихнули в темную комнату при КПП (“нету света”, - объяснил сопровождающий), в которой я просидел несколько часов, ожидая некое лицо, которое компетентно займется мною. Дверь оставалась приоткрытой, и я слышал анекдоты дежурных, своим смыслом совсем не подходившие к “важности” места и роли этих людей.
Они все играли в какую-то игру: чеканили шаг при разводах, отдавали рапорты старшему по чину: серьезно, путано, в положении “смирно”, с рукой у козырька. В половине двенадцатого почему-то заиграл, завыл гимн, и они все, встрепенувшись, вскочили, весь гимн простояв навытяжку, снова с “честью” у козырька. Кажется, так делала вся часть, даже спящие и сидящие в сортире. Потом продолжили анекдоты.
Я сидел, жевал конфету, думал и радовался. Это был прикол, я же радуюсь всякому приколу. Да, нынче прекрасно “клюет”! И хоть клевало на меня - в выигрыше был я.
Но пришедший, наконец, штатский, который одновременно был лейтенантом, повел дело всерьез. Он явно мне не верил, и ему с самого начала все было ясно: и почему я так мало пробыл в Ереване, и почему поехал этой дорогой, а не стопом - через Севан (иначе зачем спальник и фонарь?), словно истый защитник идеи. (И как ему было объяснить, что на поезде потому и поехал, чтобы побыстрее вернуться к жене, бессердечно брошенной мною на платформе города Сочи?) Начал он с психологического допроса меня, потом моего рюкзака (“Что там лежит?.. Нет, не вынимайте, сами скажите... А теперь вынимайте... А что это?.. А зачем это?”). Потом уходил, проверял, видимо, по коммутатору агентурные данные. Потом обыскал сам, пролистал записи, попросив прочесть самый критический, как назло, кусок. Чуть-чуть прочел, дальше отказался, объясняя пренебрежение его желанием личными мотивами творчества. Он не настаивал. Но что все они, козлы, хотели знать: женат ли, почему без жены, где работаю, с какого до какого отпуск (и почему так много - мой лейтенант оказался даже неплохим знатоком Москвы) - и требовал снова (как в Тбилиси) какого-то мифического отпускного свидетельства. Я посоветовал, как знатоку Москвы, не разыгрывать комедию, а про себя добавил: “...и выдавать за факт - мечту”.
Тем временем он стал изучать мои пометки в Цицероне: “А что вы здесь отметили?.. А что вы хотели сказать этой отметкой?..”
- По-моему, все там сказано ясно. - Я первый раз злился на свою откровенность и пренебрежение всеми правилами конспирации, отчего для умного человека все мое антисоветское нутро было открытой книгой. Слава Богу, мой лейтенант не принадлежал к их числу. К тому же его могло сбить с толку то, что Цицерон в моих пометках не только ругал тиранию, но и отрицал богов.
- Ну, я же знаю, и ты знаешь, зачем ты сюда ехал. Зачем тебе в поезде и спальник, и фонарь, и карта (мой стопник - “Атлас автомобильных дорог СССР”). Лучше сознайся, чего ваньку валять...
- Вы говорите полную ерунду, мне даже спорить с вами смешно. Вы слышали про такую вещь: презумпция невиновности? А у вас действует, я вижу, презумпция виновности.
- Да у меня доказательств против тебя хоть отбавляй! Ты без разрешения въехал в погранзону, уже это одно!
- Я не выбираю маршрут поезда. Это он въехал. И никто на вокзале в Ереване меня не предупреждал и этого разрешения не требовал. И ни у кого не требуют, вы отлично это знаете. К чему вся эта игра? - Не на того напал, я на ментах пуд соли съел.
В конце концов, он позвонил домой моим родителям в Москву, поднял, небось, с постели...
Вернулся, тон изменился.
- Ладно, утром мы тебя посадим на поезд и поедешь дальше...
Увы, он выполнил свое обещание лишь наполовину. Утром на том же грузовике меня отвезли на вокзал и действительно посадили (без билета) на поезд, но не в Баку, а обратно в Ереван. Причем сдали пограничному конвою, который сообщал любопытным, что с задержанным разговаривать запрещено. Пограничники сошли в том месте, где кончалась погранзона, отдав мой паспорт проводнику, чтобы тот по прибытии в Ереван сдал меня на вокзале ментам.
Я ехал и злился: не люблю повторений и возвращений, а, главное, новой потери времени. Путешествие стоило признать неудачным. И правильно, я ничего другого и не заслужил: не надо было бросать Риту.
Лежа в тоске на бесплатной, но постылой полке, даже без матраца, стал сочинять стихотворение, которое назвал “Под конвоем”:
Что ты можешь мне дать
На этой земле,
Что как раз можно взять,
Не замаравшись в дерьме?
Где меня не учует
Клюв длинный фуражки
Садиста-чистоплюя
В девственно-белой рубашке...
И так далее. За этой деятельностью я успокоился. Оправдан всякий опыт, дающий стихи, даже скверные. К тому же, когда подъезжали к Еревану, проводник вернул мне паспорт:
- На, не хочу я с ними вязаться. Только не попадайся им больше, суки такие...
- Что же, поеду стопом через Севан,- решил я, как, видимо, мне и следует по моей дорожной карме.
Я доехал до Севана на легковушке с милыми армянскими парнем и девушкой под срывающуюся музыку.
На берегу Севана прямо рядом с трассой стоит армянский храм, который я зарисовал. Под ним какой-то местный дурак-экскурсовод вещал группе зевак о рыбе сиге и профессоре Мечникове, поднятии уровня Севана и прочей ерунде. Причем тут сиг?
На глазах туристов я пошел на берег купаться. Но сколько ни шел, не мог найти глубины. Поднятие уровня Севана, видно, все-таки было относительным. Зато, несмотря на малую глубину и средне-жаркое солнце, вода в озере была ледяная. Я уже отвык от такой.
Севан - малюсенький недостроенный городок с обычной комедией любопытства местных людей. Здесь я неосторожно сел перекусить на какую-то ступеньку с растаявшим от жары мазутом и измазал штаны. Коими запачкал сидение следующему водителю (опять частнику), который любезно увез меня прочь от Севана. Я честно ему в этом признался и извинился. Обломал человека.
Потом ехал на грузовике - до пересечения трех дорог на пересечении трех границ: армянской, грузинской и азербайджанской. Трасса петляла в ущелье изумительных лесистых гор, а по обочине стояли люди с полными тазами грибов. Я был даже признателен погранцам, что они вынудили меня на это посмотреть. Машина с добродушным грузином шла обратно в Тбилиси. Я усилием воли свернул себя на бакинскую трассу.
. . .
Всюду встречаешь учителей - и поражаешься, насколько сходны мысли учительствующего водителя и кандидата филологических наук.
- А зачем ты путешествуешь? Какой толк в этих путешествиях? Есть от этого какая-нибудь польза для других, вот мне будет какая-нибудь польза?
- Нет, вам не будет.
Чувствуется та же самая закалка. Лишь у водителя откровеннее проявляется главная мысль: всюду искать материальную пользу, приносить которую вменяется в обязанность другим людям. Польза, приносимая обществу, - это их критерий ценности, их разменная монета. Но нет общего человека, поэтому человек должен всегда бунтовать против обобщений и статистики, выговаривая себе право лучше знать о своем назначении, как государство мнит, что лучше знает о потребностях экономики.
Живя в Москве, я всегда бывал шокирован видом бедных самоубийц, совершающих свой ежедневный намаз, рядами и колоннами в отвратительной спешке устремляющихся к местам стоянок своих галер, где они вырабатывают то, чем не могут пользоваться, где они трудятся, чтобы не иметь, где они загромождают все пространство свободы, необходимой для того, чтобы в жизни был какой-то толк.
Этим трудолюбивым ленивцам приходится утешаться словами Карлоса из “Клавиго” Гете: “...Вечная истина остается в силе: кто ничего не делает для других - ничего не делает и для себя”.
Впрочем, не все так грустно на трассе. Под Кировобадом попался словоохотливый правдоборец-армянин из Азербайджана. Он остановился, отъехав уже далеко от меня, и все же вернулся и предложил подвезти.
- Я гуманный человек, - объяснил он.
Сразу представился:
- Фронтя.
Он родился, когда началась война. Но патриотизма от родителей не унаследовал: почти сразу он назвал наше государство дурацким. Дурацкость, впрочем, заключалась в том, что всех кормим, а у самих ничего нет. Я объяснил, что кормим в целях стратегических, отвоевывая плацдарм у Запада. Он ответил, что он парень грамотный и все понимает. Поговорили об агрессии советских войск в Афганистане. Его антипатии странно совмещались с воинственными патриотическими ухватами, типа: захватить не один Афганистан, но и Иран в придачу, ничего им (Западу) не оставить. Плевать он хотел на Запад. Я и здесь попытался объяснить позицию совдепа: экономить на всем (на нас), но снабжать армию. И он опять со мной согласился.
Поговорили о Чернобыле. Две тысячи погибших, если верить голосам. Рассказал о жившем там друге, который, не будучи, как и все, предупрежденным, после смены стал стирать пыль с машины - и получил крутое количество рентген. Теперь не чувствует ног, выпали волосы, лежит в госпитале в Москве. Вместе со многими другими. Мой шеф ездил к нему.
Прошелся о нравах в Азербайджане: 5 тысяч за поступление в медицинский техникум, 25 за мединститут. А откуда взять? Вообще, на что жить, получая 180-200 рублей? Вот и ездит халтурить в другой город, тратя десятку на бензин. Зато получает пятьсот-восемьсот, а иногда и тысячу. Он строитель. Раньше всегда хотел быть честным, а потом понял, что честным не прожить. Рассказал о методах, которыми пользуются здешние хозяйственники, уворачиваясь от директив сверху. От них требуют поставок хлопка, который здесь не растет, но есть в плане, и никто не смеет спорить. Поэтому местный председатель совхоза, участник каких-то съездов, пламенный строитель коммунизма, стал меняться с другими районами на шерсть. За это и сняли. Зато в его рапортах по урожаю этого самого хлопка совхоз обгонял даже Среднюю Азию.
Рассказал о миллионерах, о том, что в области 80 процентов - богачи: самое большой по союзу благосостояние, машины, отдельные дома, собственный скот, частные поставки. Зато масло стоит 7-8 рублей, мясо - десять. Он на обед тратит три рубля. А сколько на ужин? А дочери, а сыну? Учителя в школе ни одну оценку не ставят без взятки.
- Дочь у меня из восемнадцатого века - безответная. - В голосе к безответной любовь.
От него первого я услышал, что здесь в Азербайджане армян не любят. Это колебало миф о пресловутой дружбе советских народов.
- Да что там “дружба”! - перережут как нечего делать, они же варвары! - досадует Фронтя.
И еще мой армянин ратовал за частный сектор, за свободную покупку материалов (а то сразу - воровство, суд; он только что что-то там купил у частника, то бишь слева). Тридцать пять лет работал - купил машину. Ни дня она не простаивает. Ничего, ездит. Соседи смеются: поменяй. А на какие деньги? Может быть, вы дадите?
Он не молчал ни минуты, приводя и умножая свои обиды. Рассказал о богатых соседях, мнение которых слушает вся улица, даже о футболе. И о том, как дал по морде прорабу, который не так закрыл наряд. И о прекращении обучения на русском языке в технических вузах в республиках. “А нам в свое время говорили: учите русский язык, это такой прекрасный язык!..”
Довез меня по объездной до трассы аж за Евлох - действительно, гуманист.
- Извини, если что не так...
Все азербайджанцы ужасно любопытны. За удовлетворение любопытства готовы поить и кормить. В первой же азербайджанской чайной меня закидали вопросами. Все здесь помешаны на чае в прикуску. Я пил его бесплатно за короткий рассказ о себе. И так везде: в Дагестане, в Чечено-Ингушетии. В Осетии я получил бесплатный обед в столовой лишь за роспись в книге благодарностей: человек из Москвы, к тому же такой прикольной.
Местный старик-нравоучитель рассказал о русском старике своей молодости, рыболове и отшельнике, посещавшим лишь здешний винзавод, где ему бесплатно наливали канистру вина (как здесь принято). Он жил один на озере, богатом рыбой, и ни с кем не встречался. Это был как бы аналог моему случаю. Но молодые не только любопытствовали, но и искали пользы от знакомства: какого-нибудь подарка или организации бизнеса с Москвой: они чай, я оттуда - джинсы. Когда я отказался, начали трепаться про баб: кто, с кем... Никаких строгих нравов я здесь не обнаружил.
Ночевал я в поле, на площадке под придорожной насыпью рядом с трубой, по которой тек ручей. Я уже привык так: один, под открытым небом, как последний бродяга.
Я проснулся рано утром после неплохого сна, свернул спальник, вымыл лицо в ручье, съел плавленый сырок. Бодро поднялся на дорогу и поднял руку - как всегда не очень высоко, с толикой высокомерия и независимости.
И был осчастливлен длинным вояжем на переполненном частнике со спустившим колесом до Баку. Где-то за Шемахой первый раз видел миражи. А так - долгая жаркая пустыня, жалкая колючая трава по склонам гор, напоминающая разбрызг из аэрографа. Какие-то насекомовидные сооружения в море - вроде водяных пауков. Вышки, море вышек - страшный уродливый лес. Такие же заводы - грязные, закопченные, покрытые серой пылью. В Баку владельцы машины неожиданно захотели бабок: заметное охлаждение между нами при высадке:
- Когда на такси едешь - деньги платишь? - спросили они меня сердито.
В Баку меня ждала жара и новое сталинское влияние на кирпиче и камне, книги (томище “Песен о Гильоме Оранжском”, бери, если не тяжело) в книжном магазине в центре, глумливый смех за спиной, старинный район с мечетями и медресе, минаретами, баней, караван-сараем, в котором ныне ресторан. Некоторым постройкам, вроде Девичьей башни, почти тысяча лет. Крепость, старый город - напоминают Тбилиси. На стенах вывески и реклама: Restaurant, Bank, Hotel Ambassador, etc. Вроде кино. Спросил о сей притче продавщицу из магазина. Она ничего не знает. Смотрит на меня: “Вы сами из фильма?”
Я вышел на улицу, забавляясь нелепой репликой. Если я актер, то в каком кино? В таком случае для меня, как для настоящего кшатрия, кино и должно быть моей реальностью. И сейчас самое важное - понять, в каком фильме я снимаюсь?
Съемочная группа хорошо замаскировалась. Нигде не было видно никаких следов. Никто не останавливал меня, ни о чем не спрашивал. Все было очень натурально. И все-таки фильм, наверное, был. Многосерийный и не очень веселый.
Начало одиннадцатого вечера по-местному. Я сидел в здании вокзала и писал. Подошел полис, взял документы, повел к старшему чину. Снова дознание: по какому делу приехал? Опять спросили мифическое отпускное свидетельство.
- Если ты на вокзале, почему без билета? Не знаешь, что сидеть здесь нельзя, а ты сидишь уже давно.
- Странно, другие ждут по несколько часов, а я здесь едва двадцать минут...
Oни посоветовали купить билет и сегодня же уехать. Я огрызнулся:
- Зачем мне уезжать, я только сегодня приехал и хочу пожить... У меня есть друзья, и жду, чтобы дозвониться.
Отпустили. Только сел, подвалил еще одни, и галиматья началась снова: кто, из какой секты, и почему волосы, и сколько лет, и надо ли этим идиотизмом заниматься в таком возрасте? Я откликнулся на идиотизм:
- Я же не спрашиваю, чем занимаетесь вы?
Поспорил, отошел. Ах, если бы только эти в форме. Сколько тут было переодетых полисов: вон налетели на нищенку на тележке!
Стало ясно, что покоя они мне не дадут, будут следить, и мне надо будет соответствовать действительной правде, им неочевидной. А это трудно: доказывать правду и заниматься творчеством. Поэтому мне одна дорога - идти опять искать место на газоне.
У меня был бакинский телефон: 92-07-86 - Ира. Но за весь день я так и не позвонил. Почему? Неужели любитель приключений испугался? Нет, пожалуй, я хотел проявить такт. Она же не была из наших. В Пицунде мы все ходили голые, без всяких последствий и мифической свободной любви. Впрочем, там-то все были хипповки, то есть существа родные и бесполые. А это была нормальная женщина - и не захочет ли она от меня того, чего я не готов был ей дать? И неизвестно, как бы она отнеслась к свалившемуся ей на голову незнакомому бродяге, которому в минуту душевного порыва дала свой телефон? Тогда была одна минута, сейчас - другая. И мне было бы горько убедиться в этом, особенно после облома в когда-то глубоко мною любимом Сочи. Лучше я останусь с идеальным образом. К тому же главное для нее - успокоить ее справедливое сердце, убедившись, что я на свободе. Но я свободен - это самое главное, цель достигнута и смысл звонка терялся. Лишь только пообщаться. Но кто она мне?
И все-таки, обреченный на ночь в городе, я позвонил. Бог с ними, с предрассудками, к тому же город по-настоящему могут показать только местные... Телефон молчал. В течение вечера я звонил еще несколько раз. Увы: вместо комфортабельной ночевки в доме у приятной девушки, я ночевал на прибрежной скамейке, и утром был обчищен двумя местными мерзавцами, которые опять захотели “подарка” (как какие-то монголо-татары) и прямо у меня на глазах залезли ко мне в рюкзак и похитили купленный в Тбилиси сувенир для Малыша - и скрылись по очереди, так что я, с разобранными вещами, не мог броситься их догонять.
Спасибо тебе, Ира, за твое участие, и прости...
На автобусе я выбрался из Баку: мимо городского пляжа - и все дальше вдоль синего манящего моря. Добрый русский военный взял меня в свою легковушку. Рассказал про специфику неактуальной для меня армейской жизни, губу и прочее. В это время мы проезжали Дербент с его стокилометровыми стенами - в горы и в море. Это знаменитый “Проход”, защищавший Закавказье еще во времена Александра Македонского.
В Махачкале я искупался (в первый раз) в Каспийском море. Вода почти пресная, какая-то не морская. На нежном песчаном берегу познакомился с юношей Магометом. Он повел к себе домой, сделал яичницу. Побеседовали о Москве. Я оставил ему свой московский телефон. Он проводил меня до трассы и показал дорогу.
Проехал всю Чечню, заночевал в Ингушетии. Хозяин Миша, довезший меня до своего дома, зарезал овечку, разделал ее вместе с женой, зажарили печенку. А я отказался. Так что ели они сами - вместе с соседкой. Они тоже спрашивали про Москву. Говорили о своей жизни: корова - 500-600 рублей, налог - 40. Страховка же за нее в случае смерти всего 150. Такая же дороговизна и на все остальное. Нет масла. Хорошее платье - 300 рублей. Соседка - мать семерых детей - не получает пенсии, не дают квартиры. Собирается жаловаться Горбачеву, но не на это, а на порядки на рынках: запрещают продавать мясо, кукурузу, мед и т.д. Торговля только с официального разрешения.
Они смотрят телевизор, поэтому знают: смерть Дина Рида - это подстроенное (империалистами) убийство.
Утром я застопил дальнобойщика. Он местный, рассказал мне, как взорвали гору под Минеральными водами: мешала авиации. Хотели взорвать и Змейку, да упал уровень нарзана, и остановились. Как просто мыслят эти люди! Им на горы наплевать, а я еще мечтаю, чтобы они церемонились с личностью.
В кафе в Ставрополье я наелся отравленных вафель, оклемался - и заслужил новый трип на монструозно огромном ЛИАЗе, “короле трассы” (ибо перекрывает почти ее всю), с шофером-экс-пограничником, служившим как раз в Нахичевани. Рассказал про постоянные тревоги, когда птицы и животные попадают в проволоку, про стрельбу по живой мишени и про то, что, несмотря на все усилия погранцов, страх, содействие местных жителей, получающих премии за каждого выявленного потенциального перебежчика - бегут каждый год, впрочем, редко удачно. А местные - они же родственники, что с той стороны, что с этой, даже кишлак бывает один, просто рекой разделен. Подходят к границе и переговариваются. Попробуй пойми, кто чей.
Полтора часа я простоял на шоссе под Кропоткиным, пока меня не подобрал трофейный “мерседес” 38-го года, с двигателем от “волги” (единственная в моей жизни поездка на “мерседесе”). Шофер-экскаваторщик был очень подготовлен к умеренной критике режима (каждый хиппарь на трассе - разъездной пропагандист, разносчик диссидентской заразы по просторам кондовой).
Последний, уже ночной драйвер, не доехал восьмидесяти километров до Ростова, высадил и улегся спать. Я заночевал на автостоянке на лавочке. Утром три часа на трех машинах я добирался до Ростова. Поел на объездной в кафе и нагло попытался вписаться на автостанции (так, в общем, не принято. Надо избавлять шофера от необходимости личного отказа). К полседьмого вечера отъехал от Ростова всего на триста километров.
Я стоял на трассе, читал книжку, механически поднимая руку при шуме мотора. Кто-то пулей пронесся мимо меня, свист тормозов за спиной. Обернулся: стоит “жигуль”, ждет меня, даже сдает назад. Водитель с изумлением посмотрел на меня, покачал головой:
- Не мог не остановиться - такой человек на трассе с книгой: никогда не видел!
Но и он меня изумил: сегодня утром он выехал из Грозного (сам он чеченец или ингуш) и еще сегодня собирается попасть в Калинин (то есть за Москву).
- Как думаешь, успею?
- Не знаю, - говорю я с сомнением. А сам рад: так быстро и удобно доберусь до места. Даже если не сегодня, а завтра, все едино.
Дальше была бесстрашная гонка: он и правда хотел попасть в Калинин еще сегодня. Я болел за него изо всех сил, и не его вина, что ему не удалось. Его тормозили на каждом посту ГАИ: за превышение скорости взяли двадцать рублей. Потом за отвалившийся номер, за непройденный техосмотр. В два ночи поломка. Мой кавказец, как выяснилось, умел лишь водить, за счет чего машина едет - знал он весьма приблизительно. Я тоже. Поэтому я больше сочувствовал, деловито оглядывал мотор, ища очевидный дефект и поднимал руку при шуме редкого мотора.
И опять удача: остановились двое русских ребят и довольно быстро помогли: как известно, русский автовладелец - мастер на все руки. Но эти еще были и смелыми ребятами: тормознулись ночью на голом шоссе.
В четыре ночи, сделав еще порядочный рывок, решили спать.
- Все, - говорит хозяин, - сил больше нет... Засыпаю...
Было видно, как он измотан.
Спали мы вместе в машине, откинув сиденья. Чуть рассвело, опять вырулили на трассу - и полетели. В Домодедове он попросил у меня семь рублей - на бензин, чтобы доехать до своего Калинина. У меня остался лишь пятак на метро.
Москва пробудила в нем робость и неожиданно взявшуюся бестолковость: совсем не мог ориентироваться.
Впрочем, я тоже почувствовал - страшный город с толпой-самоубийцей. Я слишком рано вернулся сюда. Мне надо было, как Одиссею, путешествовать десять лет.
Я еще не напился этой соленой воды,
Я еще не очнулся от этих камней и деревьев,
Я еще не вгляделся в хрустальный бокал
Непристойно роскошного лета...
...Я еще не закончил играть
В представлении южного мифа -
Я лишь начал...
P.S. (1998)
Рассказ Шурупа (точнее “телега” - вещь художественная и потому не обязательно фактически точная) о том стриженом мальчике - через двенадцать лет (см. сноску в начале текста). Звали его Аркаша.
Это произошло за несколько дней до нашего приезда. Егор в приказном порядке послал в город за продуктами самого нестремного. Им был выбран Аркаша. Он не хотел идти, но тусовка сказала - надо. Через четыре часа он вернулся с продуктами, но наголо стриженый.
- Вот цена ваших продуктов, - сказал он, отдавая сумку. Неизвестно, что с ним делали в ментах, он не хотел говорить, но его все еще мелко трясло. Трясло еще два дня. Потом он уехал (мы его не застали).
Через несколько лет, в 89 году, Шуруп с Егором собирали в тех же местах мандарины, и Егор, вспоминая эту историю, признался, что не надо, наверное, так нажимать на людей, уж лучше вовсе не есть.
А еще через год в Москве объявились какие-то “индейцы”, ошивавшиеся около “Этажерки” - хиппового кафеюшника на Тверской, которые мочили людей, в том числе, и волосатых. Один раз со своими индейскими криками они кинулись на идущих по Тверской люберов и обратили их в бегство. В кожаных куртках, в цепях, они наводили стрем на всех завсегдатаев “Этажерки”. Особенно был знаменит некий “Шер-хан”.
Однажды Шуруп зашел в “Этажерку” с работы - он работал неподалеку истопником, - выпил стакан чая и собрался уходить.
- Не ходи, - сказали ему волосатые, приросшие к своим стаканам, - там Шер-хан.
Шуруп, переживший люберов в самый оголтелый их год, 87-ой, не сдрейфил. Доставая сигареты, увидел, что на площадке лестницы сидит какой-то чувак в коже. Чувак поднялся и заступил дорогу.
- Ты что, ни х... не боишься? - спросил он.
Шуруп присмотрелся. Страшный, патлы во все стороны, а лицо знакомое.
- Аркаша, это ты что ли? Что у тебя за вид?!
- А, Шуруп... Узнал меня?
- Не сразу.
- У меня тут есть шампанское, хочешь?
- Хочу.
Они спустились в подворотню рядом с кафеюшником, где на парапете сидели волосатые, которых при их приближении как ветром сдуло. Вновь обретенный Аркаша достал бутылку, они выпили.
- Ты, что же, и Шер-хана не боишься? - спросил Аркаша.
- Шер-хана, наверное, боюсь, - сказал Шуруп. - Но я его никогда не встречал.
- Вот и встретились...
- Так это ты и есть Шер-хан! - засмеялся Шуруп.
- А чего это ты надо мной стебешься! - огрызнулся Шер-хан.
- Да просто вспомнил, какой ты был. Такой тихий мальчик.
- Мальчик... Я тоже тебя помню. Никогда не забуду, как вы тогда в Пицунде сдали меня ментам.
- Что ты, каким ментам?!
- Помнишь, я не хотел идти. Но вам было по х...! Почему я - до пи..., просто самим было вломак. Потому что я был для вас ничто.
- Это Егор сказал.
- А вы промолчали. Но я вам благодарен за урок. Когда они меня хайрали, я врубился, что в этом мире нельзя никому верить. Что любовь - все это х...я! Что здесь что-то значит только сила. Спасибо - вразумили...
А через несколько лет его друзья остепенились, исчезли любера, а Аркаша-Шер-хан - умер. От наркотиков. Такая вот история.
И еще Шуруп рассказал, что Багира выбросилась из окна. И наконец, что в годы грузино-абхазcкой войны в “третьем” ущелье был абхазский концлагерь. А теперь кто-то уже вновь рвется туда загорать. На здоровье.
Часть 5. КУВШИН В ПЕСКЕ
У метро Домодедовская нужно сесть на автобус 32 и двигаться в сторону того же Домодедова. Здесь мы выходим на трассу.
Я сразу понял, насколько удобнее ехать с женщиной: не успел поднять руку, нас уже подхватил грузовик.
На обочине огромный плакат, которым колхоз приветствует проезжающих: колхоз такой-то обязуется в нынешнем году сдать 100000 литров молока.
Для чего это сообщается? Мы что, сюда поедем проверять? Или известие о таком немыслимом удое должно благотворно подействовать на души всех российских путников, правдой или неправдой оказавшихся в здешних краях?
Машину без конца тормозили и проверяли - после постановления об усилении ответственности за нетрудовые доходы даже службу специальную придумали, в подмогу ГАИ и милиции. И развесили плакаты соответствующего содержания: “Водитель, возьми попутный груз!” Попутный груз - это мы с Ритой.
Первая ночевка была под Тамбовом, в четырехстах километрах от дома, недалеко от трассной автостоянки. В кромешной темноте мы ходили и выбирали себе место.
- Здесь слишком грязно, - брезгливо отвергала Рита все предложения.
Наконец я нашел что-то более-менее подходящее. Рита мрачно согласилась. Палатку мы просто расстелили, кинули сверху спальник и быстро уснули.
Утром мы обнаружили себя в центре огромной помойки. Утренние водители уже гудели моторами.
Водители нам попадались не без прикола. Тот, что вез нас на КАМАЗе от Тамбова до Волгограда, демонстрировал чудеса образованности и памятливости на фамилии и стихи. Объяснил, что “хотел познать все понемногу”. Удивил и своим не слишком патриотичным настроением:
- Я другой такой страны не знаю! - звучало у него через фразу по разным поводам: и попутный груз, и борьба с нетрудовыми доходами, и, главное, антиалкогольная компания. Мы ему новые анекдоты: “...От безалкогольной свадьбы к непорочному зачатию”. Власть делала суетливые движения, чтобы остаться на плаву, пробивая на висельнический юмор.
Драйвер, видимо, регулярно читал газеты, но трактовал события совершенно независимо, ссылаясь на рассказы очевидцев. Разброс его интересов был изряден: то он повествовал нам об острове Шикотан с дачей японского императора и бухте с веселым названием Конец Света, то уже о “тихо удавленном” в тюрьме Щелокове с двадцатью автомобилями, о воровстве как наверху, так и среди той мелочи, с которой работает. О развале производства, лени и пофигизме. В сфере обслуживания вообще и обслуживания водителей в частности звучит постоянное “нет” - того, сего, пятого, десятого, вообще всего. И дела год от года все хуже, ему это хорошо видно.
Рассказал о печальной судьбе сына Женьки, переданной просто, без трагических тонов, как вещи обычной и чуть ли не закономерной в данном кругу: попался на выносе каких-то запчастей с родной автобазы. А где их взять еще? А они там годами лежат без дела, гниют и ржавеют.
Тюрьма - это не было чем-то из ряда вон выходящим, слишком понятное и отцу и сыну, и любому человеку их профессии.
В Волгограде у Риты случилась истерика. Жара, пыльный, до тошноты современный город, раскинутый на десятки километров вдоль Волги, какой-то апофеоз неуютности и бездушия - долбанул по усталым мозгам. Заводы, многоэтажные бетонные районы, портовые краны, улицы, по которым можно ехать часами, нигде не сворачивая, наблюдая в окне одну и ту же картину. Дурацкий монумент на горе, такой же бетонный и агрессивно-холодный, как и весь город.
Рита со слезами швырнула мне сумку и сказала, что дальше не поедет. Ей хотелось пить, есть, отдохнуть, но сколько мы ни шли, нам не попадалось ничего, где можно было бы сделать это хоть более-менее цивилизовано.
- Ты можешь таскаться сколько хочешь, - бросила она, - а я устала!
- Хорошо, - согласился я. - Сядем на поезд и вернемся в Москву!
Она долго молчала, потом взяла сумку:
- Пошли.
И мы снова поехали через весь город вдоль Волги, ища выхода из этой западни, что зовется городом-героем Волгоградом.
Навстречу нам прет странно знакомая машина. Я даже опустил руку, чтобы дать водителю моральное право проехать мимо. Но машина остановилась, открылась дверь, и отец Жени кивнул нам:
- Здрасте, давно не виделись.
- Ну, значит, судьба, - сказал я.
Под впечатлением астраханских степей вспомнил миражи в Азербайджане. Миражей здесь не было, зато были заметны старания не оскорбить степь немногими зелеными насаждениями. Посаженные и неполитые деревья засохли еще в возрасте кустов. Там, где была вода, главным образом потерянная из систем орошения, земля незаконно пучилась всей своей свежестью и силой. Иногда попадались места изумительных замесов: пастельно мягкий и ненасыщенный светло- и темно-зеленый переходит в охристые и бежевые тона, потом в разные оттенки желтого, вплоть до белесого.
Иногда встречался настоящий, как бы экспонируемый бархан, со всеми положенными извивами прически в несколько ярусов, прихотливо выветренный и голый. Водитель сообщил, что когда-то вся эта степь цвела и татары пасли тут огромные табуны. В наше время ее взялись орошать, чтоб выращивать рис что ли, и полностью засолили, так что даже трава больше здесь не растет.
Попалась могила или кенотаф водителя: крест с повешенным на него рулем и овалом фотокарточки в средокрестии. Внизу вместо плиты лежала монументальная грузовая шина. Зрелище было грустное, я даже не осмелился сообщить о нем Рите, умиравшей рядом с полузакрытыми глазами.
В кафе под Астраханью, где нас очень невкусно накормили, играло “Браво” с залихватской Ивонной Андерс - и паслась привязанная к палочке коза. И я все ждал, что сейчас запоет Гребень. Поколение рока, все более переваливающее хребет неизвестности.
Хиппизм - это форма интеллектуального бродяжничества, нерелигиозного отшельничества и невруб в социальную конкретику. И чем значительнее духовные искания, тем невруб в социальную конкретику делается полнее. Это герои О.Генри и Марка Твена, но рассуждающие о Боге и кладущие прик на войну, митинги и массовые шествия. Это бесспорное юродство, но юродство сознательное и гордое, не претендующее ни на сакральность, ни на снисхождение.
Они собираются на кухне и могут часами говорить о сути движения, шутить и играть весь день в детские игры, они могут не читать книг, они ездят в гости и кафе без определенной цели, рассчитывая не провести время, но создать его: ведь время, потраченное в кропотливом труде - потраченное время. Суетность претит им. Суетность - схватиться за меньшее, чтобы не тянуть большее. Иллюзия занятости, позволяющая человеку не смотреть на самого себя.
Они пьют чай и не заботятся о еде, они жуют хлеб и слушают музыку, и все время находят в ней что-нибудь новое, как все время находят что-нибудь новое в каждой своей незамысловатой минуте. Личности оригинальные, сильные, переполненные эмоциями и страстями, живущие с непогрешимостью Будды, вкушающего свинину. Они срываются с места и без денег едут в Улан-Удэ, в единственный в стране дассан, где, должно быть, живут люди, похожие на них. Они любятся, пьют, стебают правительство и рассуждают о великом. Их мокрое полотенце висит в ванной, но это не раздражает, потому что они уже вешают на тебя обильные плоды своей скитальческой жизни, где нравственность корчится в любовном акте со свободой, и чтобы переварить этот невозможный синтез - нужна большая доза веселья.
Есть история про хиппаря, который вышел выбросить мусор - и исчез на два года. Недавно его видели в Одессе.
Есть история про хиппаря, который разносил почту раз в неделю, уверенный, что в газетах и журналах нет ничего, что не могло бы подождать.
Проехав чуть ли не тысячу километров за один день, что для стопа, вероятно, является рекордом, с одеревеневшими задницами и болью во всех местах мы сползли на астраханскую мостовую.
Ночевать мы решили в привокзальном садике в обществе цыган, которые были нам и прикрытием, и оправданием. Страшно было ментов, которые вроде не должны были нам позволить ночевать в публичном месте. С цыганами было спокойнее, да они галдели до утра. А лишь мы стали засыпать, раздался сдавленный вой. Мы вскочили: на наше ложе из расстеленной палатки полз на четвереньках совершенно пьяный мужик. Он тыкался нам в ноги, как слепой, - и рычал. Я спросил его, что он делает? Минут через пять мужик составил фразу, примерно означавшую, что он ищет ключи.
- А вы их здесь потеряли? - сострадательно спросила Рита.
Мужик отрицательно покрутил головой и выдавил:
- Не знаю...
Я предложил пьяному искать в другом месте: “Вон там, вон там ищи!” - указывая в сторону фонаря: там было светлее. В анекдоте пьяный хотя бы знал, что потерял не здесь. Нашему мужику был прямой резон, выбирая из всех мест, остановиться на самом светлом. И мужик неожиданно послушал меня и уполз.
Утром мы проснулись чуть свет, раньше чем нас мог бы разглядеть патруль. Табор безмятежно спал рядом. У нас не было ни адресов, ни даже сколько-нибудь определенного представления, что есть Астрахань. Но это нам и не понадобилось: едва углубившись в город мы стали предметом заботы местных “хиппи”.
Астраханская тусовка началась для нас с Гоши (он же Игорь). Он был еще едва волосатый, молоденький неофит этого дела. Не очень начитан, но симпатичный, отзывчивый, воспитанный и, как оказалось, самый культурный здесь.
Первый раз в этом городе к нам отнеслись хорошо. До этого был старик в автобусе, кричавший: вы позорите моду! В желании нас за это покарать он доходил буквально до расстрела. Родина из его инвективы эвфемистически выпала: возможно, он не желал признать в нас соотечественников.
Гоша рассказал, как им тут живется. Положение было узнаваемое: визиты участковых, арест за чтение “прав человека”, переписанных из “Курьера ЮНЕСКО”, четыре месяца без работы, креза. Еще самые первые, но страстные шаги в рок-музыке с отставанием на десять лет, но все тем же обязательным путем: Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple. Тот же сленг, тот же хайк, тот же питерский “Сайгон”, то же винтилово на Гоголях, куда он уже успел съездить в этом году.
Вообще, я еще раз понял одну главную вещь: волосатые везде одинаковы - в Москве, в Питере, в Ангарске, в Астрахани.
Это тип сознания: идеалистический, немного детский, живой, отзывчивый, весь на улицу и в то же время склонный к глубокой внутренней работе, к свободе до костра включительно. Это вкус, эстетически не приемлющий однообразия, пошлости, конформизма, жестокости и официозности. Они стихийные мыслители, но они делатели - в актах своего ежедневного протеста, просто в жизни - существовать как приятно и как хочется. Это голубоглазое противостояние, вылившееся в целую культуру. И она захватывает человека, словно малярия, и уже не отпускает годами.
Даже удивительно, насколько хиппи, вне зависимости от места и подступов к информации, являют цельное и схожее мировоззрение. Наши новые френды прежде не были даже в Москве, два года назад они встретили каких-то московских волосатых проездом - и этого было достаточно: в Астрахани появилась своя “система”, ее местный филиал, под гостеприимный кров которого мы попали.
Они, конечно, были очень серые, многие вещи и давно культовые имена оказались для них совершенно в новинку, и они слушали нас, жадно распахнув уши. Но внутри себя, по характеру, они были точно такие же: лентяи, идеалисты и стихийные ненасильственные революционеры. Здесь их нечему было учить. Напротив, они были трогательно добры, при том, что жили в условиях довольно диких, где волосатый кажется совершенно верблюдом. И лишь старые дворовые знакомства спасали их от постоянной фейсовки.
Первым делом Гоша повел нас на флэт к Витьку, в крошечную комнатку в старом двухэтажном доме без телефона. Витек самый старый из них: отслужил в армии, женился, бросил жену, работу и даже наркотики и стал совершенно свободен. В нем был напор, энтузиазм и какой-то непробиваемый оптимизм, чего не скажешь об остальных членах тусовки. Гоша - лентяй и сибарит, ему куда приятнее целый день просидеть на парапете лестницы, недалеко от Астраханского кремля, их “стрита”, их “Пушки”, их “Гоголей”, куря, неспешно рассуждая или травя анекдоты про Ленина.
Таков же был его приятель Андрей. Таков и Вася, только в еще более законченном виде. Это был человек вообще невозможной самодостаточности, не имеющий нужды сделать одно лишнее движение, удовлетворенный любым положением, в которое его поместила судьба, поставила или положила. Загадка, однако, как мог он время от времени попадать в Москву, где мы с ним потом и встречались. Однажды мы столкнулись с ним у Шурупа в выселенной квартире на Маяковке. Обкуренный Вася ходил по комнате и надувал себя насосом. Таким он и остался: пофигистом, халявщиком и оттяжником. Заделав в бессчетных тусовках каких-то детей, пройдя через тюрьму, смерть друзей и даже детей - ничему не научился, не вынес никакого опыта, заморозил себя в беспечной юности и стал в конце концов алкоголиком. Но тогда, мы, естественно, этого не знали.
Я хорошо изучил их, ибо вся их “система” позже перебывала у нас, подолгу застревая в нашей недавно полученной комнате.
Нам с Ритой видеть такое было странно. Это был интенсивнейший для нас год: домашний театр, писание программных текстов, подготовка уличных выставок, нескончаемые политические и эстетические дебаты с агрессивной, недавно народившейся и стремившейся себя заявить третьей волной волосатых, для которых мы были менторами и связующим звеном со Второй Системой, к которой принадлежали сами.
Именно тогда возникли и ярко блеснули Умка, Сольми, Папа-Леша, ставшие системной легендой.
Я не знал более бессмысленного занятия, чем тусоваться на Гоголях. У нас дома и так беспрерывно толклась прорва народа и приходили все новые, готовые прямо сейчас что-то сделать, а не просто покурить и ненапряженно побазарить. Но в маленьком провинциальном городе, где трудно к чему-нибудь себя приложить, такой образ жизни, как у этой “системы”, и был, может быть, единственным театром, поэзией и вялотекущей революцией.
Жертвуя ради нас своими правилами, астраханцы повели смотреть свой кремль, старый и впечатляющий, показывали город, по которому, как по Питеру, ходили пешком. Город был мил и хорошо сохранился. Казалось, что его просто забыли, и он жил себе понемногу, в стороне от грозных разрушительных программ, тихой провинциальной скучной жизнью, ничего не знал, ни во что не вмешивался, не очень даже рвался к новомодным словам и сменам курса.
Утомленных, полузажаренных, нас повезли на кораблике на астраханский пляж. Нежный мелкий песок, пучки ив, живописно разбросанные по его светлой плоскости. Вода была мелкая и теплая, что-то вроде Рижского взморья.
Наш единственный день в Астрахани заканчивается. Мы не тратили здесь всех сил - нам предстоял еще очень большой путь. Поэтому смотрели вполглаза, сберегая впечатления на будущее. Нас накормили домашней едой в добром семействе Гоши и предупредили, что все нормальные дороги в Астрахани кончаются и дальше ничего хорошего нас не ждет. К тому же жара, пустыня - тысячи километров... Будь я без Риты, я бы, может быть, и рискнул. Поэтому ночью мы сели в поезд, отправлявшийся в казахские степи, чтобы с пересадкой попасть в город Ташкент.
Включили и тут же выключили свет. Все мужики вагона один за другим отправились в паломничество в тамбур - курить. Женщины, не такие многочисленные, шли с мыльницами и полотенцами.
В нашем купе ехал старик с орденами и расстегнутой ширинкой, неухоженный и обдерганный, и две женщины, молодые бабушки:
- Ох, рано он женился, слишком рано! Поступил, сразу женился, родил ребенка. Ни работы, ни крыши над головой. Теперь будут мыкаться - пока-а еще что будет...
Они ездили в Белоруссию за продуктами. Смоленщина - голодный край, а вот в Белоруссии - гораздо лучше со снабжением, - узнал я от них важную информацию.
- А хорошая у вас квартира? - спросила одна другую.
- Хорошая, двухкомнатная. Жили раньше втроем, теперь двое остались.
У обеих из сумочек и конвертов появились фотографии. Одна женщина опять завела про проблемы сына: в институте ему поставили условие - или практика после вуза у черта на рогах, или армия. А у него жена и маленький ребенок. Ох, рано он женился...
Полная блондинка-проводница весело грубила и издевалась над всем вагоном. Досталось и нам за отказ брать белье:
- Надо спать на постелях, как всем белым людям!
Чужим пассажирам:
- Ходят тут всякие, потом носки пропадают.
Сперва не скупилась на чай, потом на извинения за отсутствие оного:
- Золотце, да я бы!..
Было в ней что-то русское и круглое во вполне эмансипировавшейся форме.
В соседнем купе постоянно кричал ребенок, казашка в который раз не закрывала дверь в сортирный тамбур, словно оставляя путь к отступлению, курсант играл в карты с мужиками, весело.
Обнаружилась нищая, совершенно дряхлая старуха с палкой и без билета. На попытку проводницы ее ссадить весь вагон встал как один, предложив проводнице заплатить за нее. Моя соседка даже давала рубль - легко, чуть ли не с испугом быть заподозренной в скупости. Едущий с нами мент стал защищать старуху жарко, но своеобразно, с милицейской прямоугольной настырностью:
- А как же вы сажаете без билета? А надо проверять! Нету времени? - не надо здесь работать! Не ссаживать надо, а работу делать, распустились все! Платить еще - сами виноваты! Пусть так едет, не обеднеете...
Старуха тем временем полулежала в молчаливой безжизненности и с полной безучастностью, одетая в демисезонное старое пальто с одной солдатской пуговицей.
В восемь утра мы сошли на маленькой пыльной станции в степи за Гурьевым, где-то рядом с городом со звучным именем Октябрьск. До нашего следующего поезда оставалось несколько часов - вроде бы достаточно, чтобы пополнить запас провизии.
По случаю раннего часа на самой станции буфет не только не работал, но даже не производил впечатления, что вообще когда-нибудь здесь имелся. Я остался ждать у кассы билетов, Рита направилась в поселок.
Выяснив, где расположен поселковый магазин, она явилась туда уже после открытия - и нашла закрытые двери.
- Почему не работает магазин? - стала допытываться Рита у местных женщин, уже собравшихся в очереди: есть-то хочется...
- Ну, значит, продавщица еще не пришла, - меланхолически ответили женщины.
- Как не пришла? - переспросила Рита. - Написано же в девять? А уже почти десять.
Они посмотрели на нее, как на ненормальную.
- Ну и что? Степанида задерживаиться, что тут такого? Придет и откроет. Чего вы волнуетесь?
- Так ведь и поезд скоро придет!
- Ничего, успеете, - спокойно ответили женщины, словно ясно видели ритину судьбу у нее на челе.
Если бы они все же ошиблись, голодать нам, судя по карте, до самого Ташкента.
В ташкентском поезде едут сплошь восточные люди, и вовсе не разносят чая. У всех пассажиров свои железные чайники, свои пиалы и своя заварка. Они ходят к проводнику, столь же восточному, как и они сами, и заливают чайник кипятком. Выпросил у соседа немного зеленого чая и заварил его в железной кружке.
За окном застыла бесконечная серая пустыня, раскаленное марево в непрозрачном тусклом небе, не предвещающем ни одного дождя, но, может быть, предохраняющем от полной гибели. Поезд долго стоял на полустанке маленького городка Аральска. По стопнику и по названию тут где-то должно быть море. Об его присутствии напоминают полузасыпанные песком ржавые поломанные рыбачьи баркасы. Вокруг на сколько хватает глаз - ровная пустыня. Лишь чайки в небе - примета его.
Перед Ташкентом в вагон шмыгнул немой с грудой фотокарточек. Сунул мне совершенно тошнотворное порно. Увидев мою гримасу, послушно убрал порно в карман и тут же предложил православный календарь с Богоматерью на обложке. Соседкам - неизбежные зодиаки, календари, портреты героев мультсериалов. Все дешевка и убожество.
В Ташкенте было 45 градусов в тени. Это даже меня вогнало в ступор. Ничего ужаснее этой жары я ни до, ни после не испытывал. Мы двигались короткими перебежками от одной бочки с квасом до другой, в промежутках кидаясь под поливающие траву фонтанчики, - и так знакомились с достопримечательностями.
Увы, Ташкент поразил своей совершенной современностью, словно слизанный один в один с архитектурных проектов, что во множестве выдает мой бывший колледж, и кроме занятной чайханы в центре, недавно сработанной на восточный лад, ничем не запомнился. Здесь приносили чай в прикуску или с леденцами на блюдечке и выставляли на стол чайники с железными носиками вместо отбитых.
После чайханы мы долго искали баню. Попросили работницу пустить нас в одну кабинку.
- Не положено.
- Да мы женаты, у нас в паспорте штамп есть! - сунули ей паспорта. Она внимательно посмотрела, но все равно твердила “не положено”.
- Да у нас мыло одно, и мочалка одна, и полотенце тоже одно!
- Не положено...
В конце концов в нарушение всех инструкций я пробрался к Рите. Женщина возмущенно забарабанила в дверь, но было уже поздно.
- Мне что, голому к вам выйти?
На прощание, щедро расточив на нас соль справедливого гнева, тем более сильного, что бесплодного, она спросила:
- Откуда вы такие?
- Из Москвы, - гордо ответили мы.
Женщина сокрушенно покачала головой.
- И что же у вас в Москве тоже так делают?
- В Москве у нас ванна есть, - бросила ей Рита уходя.
Днем мы с боем сели в местную электричку. Окна или вовсе отсутствовали или были распахнуты настежь. Поездка напоминала какую-то эвакуацию: салон был плотно забит плохо одетыми людьми в национальных халатах с огромными тюками. Русской речи почти не слышно. Все были возбужденны и куда-то спешили. Кажется, они находились в мистической уверенности, что электрички ходят не по расписанию, а по милости богов, словно дождь.
Женщины в Самарканде одеты своеобразно: длинные цветастые платья, шелковые шаровары, цепочки с украшениями, иногда чадра или огромный платок вкруг головы.
- Это, наверное, здорово жарко так ходить! - посочувствовала им изнывающая от жары Рита, одетая в тоненькую футболку и мини-юбку.
Самарканд еще в значительной степени восточный город, пыльный, безводный, с глухими заборами, за которыми цветут сады и стоят белые домики с плоскими крышами, так что вся жизнь умещается в одной плоскости.
Зато местные книжные были девственно безлюдны и являли драгоценные россыпи. Купил пару томов “Махабхараты” издательства “Ылым”, Есенина и, конечно, сборник таджикской поэзии, положивших начало книжному бремени, неизбежному во всех поездках в дальние концы дорогого отечества.
Мы долго ходили по старому городу, тратя время на мое упрямое желание все это зарисовать: как средневековый путешественник, я не знал фотоаппарата. Не лежала почему-то у меня к нему душа. Да и сложно все это: диафрагма, выдержка какая-то. Вместо этого меня долго учили рисовать, и делал я это довольно проворно. Да и когда еще выпадет случай: мавзолей и мечеть Гур-Мир, где находится могила Тимура, огромный, с голубым куполом, кристалл над низким городом, сияющий всеми своими цветастыми орнаментами.
В Гур-Мире стенд с пояснениями толковал, что странная сталактитовая ниша в стене называется “михраб” и является святая святых всякой мечети, всегда направлена в сторону Мекки, то бишь на юг.
Зарисовал ансамбль Шахи-Зинд, XIV-XV вв., по профилю: погребальный комплекс, выстроенный для приближенных и родственников Тимура.
За это время у входа в Шахи-Зинд скопилась большая очередь, подъехал “икарус” с туристами. Плата сюда тоже не копеечная, а мы и так круто поиздержались на поезд. Поэтому перелезли через стену и попали в самое сердце мемориала. Женщина-экскурсовод рассказывает, что по мусульманскому поверью достаточно коснуться любого камня этого города мертвых, чтобы очиститься от грехов. Ее никто не слушает: вся группа смотрит на нас. Экскурсоводу даже пришлось специально повысить голос, чтобы вернуть внимание.
Но лучше всего: площадь и ансамбль Регистан, заложенный Улугбеком в XV веке. Ни одного дерева. Раскрашенные стены торчали из голой выжженной земли. Никаких сараев, случайных домиков, пристроек, полупамятников - только суть. Набросал медресе Улукбека (медресе - это училище: мусульмане очень любили учиться). Потом мечеть в медресе “Тилля-Кари”, возведенную по приказу Ялагтуша-Бахадура и завершившую ансамбль Регистан. Орнаменты, узоры из синенькой глазури на рыжеватых стенах. Любимая фигура - восьмиконечная звезда во всевозможных сочетаниях, размерах и формах. Жуть как хитро заплетены эти мозаики! Восточный художник самовыражался в орнаменте и каллиграфии (изображения, как известно, были ему запрещены).
Посетили музей Улугбека, поглядели на остатки его знаменитой “обсерватории” (где не было ни одного телескопа), на его несчастную, отделенную от тела голову и голову его страшного деда Тимура, восстановленные в мастерской Герасимова. Пояснения доказывали, что если дед Тимур был типичный монгол, то его внук имел внешность отчетливо персидскую: длинный благородный чуть изогнутый нос, высокий лоб, относительно узкие скулы. Бедняга увлекался наукой, искусством, проводил какие-то прогрессивные преобразования и, как водится, погиб в дворцовом перевороте, организованном мусульманскими мракобесами. Обсерваторию, натурально, уничтожили мракобесы.
Из Самарканда на маленьком местном автобусе доехали до турбазы “Агалык”, согласно наколке друзей. В переполненном автобусе кто-то сунул нам под ноги свой арбуз. Постепенно люди выходили, про арбуз никто не вспоминал. Ближе к конечной, когда в автобусе осталось всего несколько человек, мы уже считали его своим. Я сошел с ним подмышкой - решил обрадовать друзей. Мы еще не знали, что их на месте уже нет, и спешили мы напрасно.
Идти в горы на встречу с друзьями было уже поздно, и мы остались здесь ночевать - совершенно бесплатно.
Утром на турбазе нам дали бесплатный же завтрак - восточная щедрость напополам с восточным любопытством. Наше московское дворянство, наше неистребимое барство - наша прописка - вызывает зависть у подавляющего большинства жителей этой огромной колонии совдепа. В целях какого-то эксперимента их обделили даже в зависти: мечтать об единственном городе страны, режимном, перенаселенном, чумовом, где, по их мнению, только и существует жизнь, источаясь во все остальные концы империи. Одни алчут его оттого, что больше культуры, другие - что больше колбасы.
На ограде местного пионерлагеря красовалось: “Верит Родина в тебя, молодая смена”. И нигде никогда я не видел обратного: чтобы что-то требовали от Родины, чтобы Родина была вынуждена оправдывать доверие. На всех лежит долг, даже на детях, но только не на Родине. Она безгрешна и свободна, как Бог!
Лагерь поднимался к своей утренней деятельности. После вступительной музыкальной части занудный голос начальника лагеря стал назначать распорядок:
- Отрядам тщательно убрать постели! - И повторил для острастки: - Тщательно!
- Не покидать территории отряда до девяти тридцати пяти. До девяти тридцати пяти! - повторил он, изображая скверное эхо.
Ему бы в казарме командовать. Впрочем, их оттуда и берут.
На заборе, отделяющем детей от мира, намазаны слова бессмертной песни, почему-то считающейся гимном идеального детства: “Пусть всегда будет мама...”, но отчего-то на этот раз в вольной интерпретации, так что за словом “мама” шел не известный конец куплета, а странная инверсия: “Будет небо и я”. Виновнику этой надписи, видимо, было лень писать, или не хватило забора, или его отвлекли иные проблемы, далекие от неба, ребенка и его мамы.
Мы шли мимо этого безнадежного забора, а за стеной уже трещала на весь лагерь дорожка заезженной пластинки, и, к моему изумлению, на простые детские души обрушилась песня Аллы Пугачевой про ангела со святыми очами и неисправимую вину.
Последние деревья - и цивилизация кончилась. Мы брели вдоль речки Агалык вверх в горы по однообразному раскаленному плато, постепенно превращающемуся в ущелье, почти лишенному растительности. Я нес свой здоровенный арбуз, перекладывал с руки на руку - раскаиваясь и в благотворительности и в жадности. Ущелье постепенно сужается, но стоянки друзей все нет как нет. Мне кажется, мы шли часа четыре и нашли поляну у воды с кучкой деревьев, запруду и островок, сильно напоминающие описанное друзьями место. Но и здесь было пусто. Я бросил рюкзак и пошел дальше. Через час ущелье совсем сжалось и стало много круче, пошли какие-то заросли кустов и деревьев. Еще чуть-чуть - и дошел бы до горных снегов. Впрочем, я повернул назад.
За мое отсутствие Рита обнаружила несомненные подтверждения, что стоянку мы выбрали правильно: в реке она нашла перочинный нож с белкой, в кустах под камнем сетку еще живого лука и чашку с дыркой наверху.
Слава Богу, в магазине мы купили хлеб и килограмм серых макарон (риса не было, его здесь, кажется, вообще не продают), так что нам не надо переться назад. Мы пожарили лук с макаронами, сварили чай, разрезали проклятый арбуз. Мы здесь одни и еще не готовы это осознать. Как-то все это нам иначе представлялось: в большой веселой компании, когда и пустота места и отсутствие развлечений не портят кайфа.
Уже в темноте я поставил палатку и по многолетней инерции накрыл ее целлофаном. Рита издевалась:
- Что ты делаешь! Мы же в Азии!
Но мне уже лень было снимать. И ночью мы проснулись оттого, что на палатку обрушился ливень. Потом я разговаривал с местным чабаном: ливня в это время года не припомнят и аксакалы.
Рита покачала головой:
- Это все из-за тебя. Тебя надо за деньги посылать в засушливые районы...
Я проснулся рано. Взглянул на скат палатки. Солнца еще не было. Здесь оно появлялось около семи. Было без двадцати семь. Я решил кое-что записать. Пока писал, на брезентовом верхе расцвел желтый цветок. Я бросил писать и вылетел наружу. Над одним краем ущелья висело прекрасное, но еще холодное солнце, над другим, выше, в темно-голубом небе - призрачная дымчатая луна. Горы с надолбами обнаженных камней были пастельно розовыми и охристыми. От палатки, камней, кустов и меня на версту тянулись гладкие тени, будто под лучом прожектора.
Утром мы снова знакомились с местностью, бродили по горам, голяком купались в маленьком озерце, образовавшемся из запруженной речки. Я чуть-чуть рисую. Рита произносит мертвый готский стих: dalath thаn atgangandin laistithethun assis iffar imma umions managos. “Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа”, - приятно терпкий на свежем воздухе Тянь-Шаня.
Поверху скатов нашего ущелья бродят овечьи стада под охраной чабанов. Мы не обращали на них внимания - загорали на расстеленном спальнике. Я вспомнил картины недавней пицундской жизни. Всей семьей выстроившиеся в цепочку люди, доселе смело бредущие вдоль берега с купальными принадлежностями в руках, вставали как вкопанные на положенном расстоянии, едва состояние дел открывалось для них во всей непоправимой очевидности, и быстро поворачивали назад, навсегда скрываясь за ближайшим мысом.
Были персонажи и посмелее и постраннее. Толстая матрона кричала своей дочке или внучке: “Верочка, не смотри! Верочка, закрой глазки!” - и упрямо вела ее вперед. В ее голосе не было гнева или оторопелости. Это говорилось просто и деловито, как говорят детям закрыть глаза перед летящей пылью или не смотреть на сварку: лишь берегут их здоровье, ничего более.
- Afterwards we could say - we were happy there, - произносит Рита у меня за спиной.
Мы позволяем себе и еще большую разнузданность: просто занимаемся любовью, а потом купаемся в ручье. Мы серьезно вообразили себя на необитаемом острове.
И напрасно. Пока мы плескались в озерце, к нам приблизился человек. Он что-то возмущенно кричит и машет палкой.
- Иды сюде, иды сюде! - вопит он, словно вызывает драться.
Я натянул плавки и подошел. Это был бедный, загоревший до черноты узбек в старом драном подпоясанном халате, с длинной плетью. Спросил, что ему нужно? Он пышет гневом:
- Почему голый?! Тут нельзя голый!
- Почему нельзя?
- Нельзя! И еще голая женщина!
- Так здесь же нет никого.
- Как нет! Дети ходят с овцами, смотрят!.. Откуда вы? - наконец спрашивает он.
- Из Москвы.
- А, из Москвы... - его реакции моментально меняются. - Из Москвы... Тут тоже стояли недавно из Москвы.
- Это наши друзья. Мы собирались с ними встретиться.
- Да, они ушли несколько дней назад. Хорошие люди.
Мы познакомились, его звали Бекмурза. Он неспешно сел, мы предложили чай, он отказался, достал что-то из железной баночки и положил в рот. Нам отлично известно, что это популярное на востоке средство расхоже зовется “насвай” и имеет, вероятно, тот же эффект, что у индусов листья священного дерева бетель. Но местные темнят и на все расспросы ухмыляются.
Он начал рассказывать нам про наших приятелей. Он ходил к ним каждый день, приносил какие-то продукты. Они даже фотографировались вместе, и ребята обещали прислать ему фотографии. Вот только снялись так быстро, что забыли взять адрес.
- Ну, так давайте, я запишу, - сказал я.
- Да, да? Ой, как хорошо, как хорошо!
Теперь он наш лучший друг.
- Купайтесь, купайтесь, если кто будет спрашивать, скажите, что вы знаете Бекмурзу, он ваш друг.
На следующее утро нас разбудили коровы, меланхолически поедавшие нашу скудную провизию. Мы с Ритой криком отогнали их. Поискали пастуха, но никого не нашли. Коровы жили совершенно самостоятельно. И так же самостоятельно себя прокармливали.
- Подоить бы их в отместку, - мстительно говорит Рита. - Как ты думаешь?
- Давай. Ты умеешь?
- Нет, конечно.
Вновь пришел Бекмурза, на этот раз со всем своим стадом. Овцы, сменившие коров, были невероятно грязны и вонючи. Клоки отросшей серой шерсти торчали и висели во все стороны. Они прыгали вокруг, блеяли и пожирали жалкую сухую траву, занозя глаз своими черными попами.
- Что ж у вас овцы такие грязные? - спросила Рита.
- Ничего, будем стричь, помоем, - смеется невозмутимый чабан. Ему с нами хорошо, какая разница, где пасти овец? Он сосет свой насвай и мерно рассуждает о жизни. Нас же это соседство сильно раздражает.
- Мы купаться пойдем, - сказал я.
- А, ну, я пойду! - спохватился он. Видеть наготу девушки выше его сил!
Вечером новая история: в палатку залезла мышь. Мне почему-то изо всех сил захотелось ее, шпионку, поймать.
- Мышь не может бежать назад, и кошка часто этим пользуется, - инструктирует меня Рита.
Не знаю, она, и не умея этого, очень ловко от меня сбежала. Я и представить себе не мог, что мышь может с места прыгнуть вверх на полметра! А она сделала это несколько раз подряд, словно кенгуру.
Через два дня я пошел в Агалык за продуктами, а также кинуть весточку на Большую землю. Это путешествие на весь день. Справа от меня журчала река, мелкая, едва-едва не исчезающая совсем среди камней. В ней ловили рыбу двое местных жителей: они быстро-быстро вычерпывали ведрами воду, пока от реки не оставалось маленькое озерцо, где и скапливалась вся рыба, которую они хватали руками или теми же ведрами.
Потом эти рыбари завалились к нам: менять рыбу на водку.
- Спасибо, рыбы нам не нужно, мы не едим, - сказала Рита. Она слегка испугалась. Она была одна среди гор, в довольно соблазнительном виде, и тут кричи не кричи, если им что-нибудь придет в голову.
- Ну, так дай водки, - мрачно рекли узбеки.
- Водки тоже нет. Мы не пьем.
Что у москвичей нет водки - это, видно, было выше их разумения. Они угрюмо смотрели на Риту, не то решали, говорит ли она правду, не то - нельзя от нее еще что-нибудь получить?
- Была б у меня водка, я бы с удовольствием отдала бы им ее задаром, только бы ушли! - еще в непрошедшем страхе рассказывала мне вечером Рита. - Никогда больше не уходи, слышишь?!
Рыбаки, наконец, плюнули и пошли назад, верно, обзывая нас плохими словами, может быть, даже усомнившись: те ли мы люди, за кого себя выдаем?)
В Агалыке я купил неизменных макарон, соли, банку каких-то консервированных овощей и хлеба. Агалыкская почта работала в “домашнем” режиме. Да и вообще мелкие официальные учреждения на Востоке работают очень вольно. Магазин и почта могут быть закрыты в любое время, а продавец или работник заниматься поблизости своими делами: готовить еду, мыть овощи в ведре или беседовать под деревом с соседями.
На принесенных мной продуктах мы прожили еще несколько дней, читали английского Керуака, загорали, купались в нашей луже. Вода в луже, как и во всей речке, близка к нулю, но к середине дня прогревается градусов до десяти-двенадцати, и теперь в нее можно броситься, проползти на брюхе пару метров и быстро прыгнуть на раскаленные камни - по принципу сауны.
И все же совершать новый круиз до магазина не было никакой охоты, тем более, что Рита наотрез отказалась оставаться одна. Мы сильно вкусили дикости, загорели, отдохнули и созрели двинуть еще куда-нибудь.
После всех скитаний по Самарканду мы попали на рынок. Это было нечто среднее между восточным базаром и обычным московским рынком, только больше фруктов и меньше порядку. Тьма торгующих, спокойных мужчин в халатах и тюбетейках - сидели у лотков и машин и зазывали с восточной экспрессивностью и хватали за руки. Килограмм помидоров - 12 копеек, огурцы - 14, картошка - 16, яблоки - 45. Ничего этого нам было не нужно. Купили дыню на рубль и съели. Вместо хлеба, который неожиданно был дорог.
На самаркандской почте я запаковал посылку с книгами на свой московский адрес: получился немаленький ящик килограмм на пять. Но уже на следующей улице еще один, роковой и искомый “китоблар” (книжный), и скоро сумка опять распухла от книг, как у увлеченного охотника, потерявшего дорогу и забравшегося за дичью на край света.
На дороге на автостанцию и на ней самой не то стояло, не то жило убийственное количество людей. Садились в автобус как в Гражданскую войну - друг у друга по головам. Потом сидели в переполненном жарком автобусе, ждали нескорого отправления. Неподвижная очередь к пустой кассе. И жара. Попили воды из надувшего нас автомата. Заняли очередь, посмотрели - и пошли на трассу.
Триста километров ехали весь день: каждый драйвер вез до своего колхоза. Поэтому столько же ехали, сколько сидели на обочине. И нигде не удалось поесть. Зато под Навои на бензоколонке видели бассейн с чистой прозрачной водой, в котором плескались дети. В Узбекистане - парадокс - много воды, и они ее не жалеют.
В который раз напились, опять не надолго.
У водителей не принято курить. Тем более женщинам. Шоферы сосут свой “насвай”, который хранят в разнообразных железных коробочках на груди.
Местные шоферы возят только за деньги. Восточные люди дружественны, но и коварны, они не прочь на тебе нажиться. У нас вышло двенадцать рублей - за 270 километров. Дорога была дрянная, все время в ремонте, и только под Бухарой дуют на всю. Пейзаж был зелен, вдали белели горы, много значков с ножом и вилкой, но как-то все не случалось попасть к ним. Каждый колхоз считал обязательным воздать славу КПСС, иметь памятник героям войны и эмблемы прочей советской ахинеи. Все аляповато и избито. Чем дальше от войны, тем выше памятники героям, чем хуже урожаи хлопка, тем монументальнее лозунги и плакаты. Вот возможный сценарий: колхоз имени Маркса вызывает на соцсоревнование колхоз имени Энгельса, благо и тот и другой находятся на одной трассе и сравнительно недалеко друг от друга.
Жара, машины грохочут мимо, Рита злится на то, что своими драными джинсами я слишком бросаюсь в глаза: местное население то и дело подходит и спрашивает, люди забывают, куда шли, смеются и что-то советуют, совершенно бессмысленное, вроде того, где можно сесть на самолет, чтобы попасть в Москву. Отношение, как к диковинным зверям, за созерцание которых платят парой сердечных, ни к чему не обязывающих советов. Наелся вдоволь.
И как всюду на Востоке удивительное географическое равнодушие: никто ничего не знал, никто не ведал, куда ведет эта дорога и где искать иную.
В маленьком кишлаке, где только что нас ссадили, подошел к женщине в шароварах.
- Это дорога на Бухару?
Она долго смотрела на меня и молчала. Я повторил вопрос.
- Откуда вы? - наконец заговорила она.
- Из Москвы. Так это дорога на Бухару?
- Куда?
- На Бухару?
Она смотрела на меня своими темными неподвижными глазами с таким изумлением, будто слышала это слово впервые.
- Не знаю.
Собственно, через этот кишлак проходила всего одна дорога. Женщина прожила на ней всю жизнь, так и не выяснив, куда она ведет! Может, это и называется мудростью?
Полно открытых парикмахерских, в каждом поселке универмаг, зато чайханы попадаются не слишком часто, поэтому нам все не получается в них зайти.
Последним драйвером был частник на “жигулях”. Такой здесь кажется богачом. Он вез нас не меньше часа мимо бесконечных хлопковых полей, залитых водой и сверкающих на заходящем солнце расческой мокрых борозд. Вместе с полями участились и плакаты с редкой метафорой о “белом золоте”.
В степи, под Баку ли, под Астраханью, почти в пустыне, поражает обилие столбов электропередачи, пестреющих от горизонта до горизонта, словно скелет выгоревшего леса.
Лес действительно сошел, исчез и рельеф, и все, что было заботливо укрыто под их сенью - каркас и нервы цивилизации - вылезло наружу, явилось подозрительно преувеличенным, будто и правда то были области особой электронапряженности. Может, здесь где-то прячется гигантская ГРЭС, откуда ток идет веером на всю вселенную?
Наш драйвер достал вечный “насвай” из вазелиновой баночки и положил под язык.
- Носодер! - подмигивает он эвфемистически. - Хорошо заменяет курение. - И смеется.
- Еще бы! - усмехается Рита.
Впрочем, любитель “носодера” вовсе не собирался отпускать нас бесплатно. Даже семью рублями он остался весьма недоволен.
В Бухару мы попали уже в сумерках. Я огляделся, ища место, где можно поставить палатку. Рита захныкала: хочу в нормальные условия, хочу в душ!..
Рядом светилась огнями высотка, на фасаде английскими буквами набрано “Hotel”. Я молча взял рюкзак и двинул в ее сторону. Рита схватила за руку:
- Ты что, куда? Нас не пустят!
Гостиница оказалась “Интурист”. При ней на улице работал буфет с напитком и мороженым (и очередью), из гостиницы доносилась музыка. В вестибюле диковинно глядела на нас мягкая мебель.
Я нагло подошел к стойке администратора и спросил номер. Администратор долго не отвечала и, лишь после моей третьей попытки обратить на себя внимание, задала вопрос:
- А паспорта у вас в порядке?
Так за четыре сорок мы оказались на ночь в буржуйских условиях. Кажется, впервые в жизни мне удалось вписаться в совковую гостиницу, к тому же сразу на правах “интуриста”.
Впрочем, громко в гостинице было только название. Номер был жалок и обшарпан, хотя и с балконом. Конечно, никаких вентиляторов или кондиционеров.
По пути в номер объяснились с дежурной по этажу, с которой ехали в одном лифте. Она попросила не пользоваться электронагревательными приборами. Было бы чем! За нашу покорность она обещала снабдить нас чайником и кипятком.
Наши удобства - это ванна, две кровати, тумбочка, стул, кресло, графин с противной водой, из которого я сразу выпиваю стакан, и огни ночного города, плоские и двухцветные: белый и желтый неон.
Ресторан работает до одиннадцати. Спустившись - увидели закрытую на цепочку дверь. Через некоторое время дверь открылась, мы прошмыгнули внутрь и произвели сенсацию, некоторые посетители даже зааплодировали.
Сели за столик. В вазе приветливо лежали яблоки и виноград. Но кроме них есть нам нечего - в меню одни цыплята табака. Попытались объяснить, что нам надо, молоденькому узбеку-официанту. Слово “вегетарианство” он слышал впервые, но согласился проводить прямо к поварам. Вегетарианство и им было неведомо, и они очень удивились, что этим страшным словом обозначаются всего лишь рис и овощи (огурцы с помидорами, которые у них, конечно, были).
На неизбежные расспросы на всякий случай представился художником. Это очень развеселило поваров. Они предложили мне нарисовать своего коллегу, якута Мишу, каким-то образом попавшего в бухарский ресторан. Вот что значит жить в империи!
Защищая реноме, нарисовал усатого Мишу на клочке замасленной бумаги шариковой ручкой одного из поваров. Он строил забавные рожи, пытаясь быть серьезным. Видно, что его рисовали впервые в жизни. Повара продолжали страшно веселиться, махали половниками и подкалывали Мишу, отчего он совсем терял требуемую неподвижность. За это представление нам вывалили неимоверную гору риса, но деньги все же взяли, видимо, случайно, потому что, в общем, ребята попались нормальные. Они даже напрашивались в гости, с коньяком и фруктами, и, получив отказ, пригласили снова приходить завтра.
Увы, у их риса, видимо, на жиру, оказался фиговый вкус, вызвавший к тому же дикую жажду. Мы просто не в силах были его доесть.
Поднялись наверх и попросили обещанного кипятку. Кипяток поспел через полчаса, но чайника нам не дали: дежурная все раздала.
Заварил в кружке дерьмовый чай грузинского производства, загрыз его дерьмовой самаркандской халвой, придающей ему сладость - и испытал несказанное гурманское удовольствие, так что даже пошел за второй чашкой.
Сделать это мне помешал сломавшийся в двери замок. Его удалось открыть только снаружи через несколько минут с помощью дежурной.
- Каждый день новые хозяева! - оправдывает она конструкцию замка.
Хозяева и правда странные: на потолке длинные полосы от пальцев каких-то прыгающих постояльцев. Не знаю, на кого списать облупленную стену и перегоревшую неоновую трубку. Горячая вода периодически кончалась, раковина засорена, железные краны падали на кафель со страшным грохотом, и туалетную бумагу сперли, наверное, те же постояльцы (может быть, даже иностранные).
Я влез в ванну после Риты, и горячая вода кончилась - прежде, чем я успел себя намочить. Утром она текла такой тонкой струйкой, что вымыться опять не было никакой возможности.
Ночью невыносимо громко лаяли собаки, словно в глухом кишлаке, выла сирена, кто-то разговаривал. Под утро включили какую-то монотонную машину. Все это прекрасно доносилось через открытую балконную дверь.
Утром Рита проснулась от сильной боли. На распухшей руке были видны бордовые следы укуса. Решили, что это был скорпион. Надо было забраться на седьмой этаж, чтобы тебя подстерег скорпион. В палатке такого не случалось ни разу.
Как всюду на Востоке, как всюду в совдепии - Бухара - типичный заштатный, стандартный советский город, в современных блоках, серый, прямоугольный, в пять этажей с плоскими крышами, где только зелень что-то подправляет. Лишь кое-где в него вкраплены сооружения и ансамбли, представляющие исторический интерес, иногда исключительной ценности!
Нарисовал мечеть Калян, XVI век, главную мечеть Бухары, и ее фантастический циклопический минарет XII-XX века (словно Кельнский собор - его строили всю жизнь).
Посмотрели крепость и дворец местного Бухарского эмира, в которой он сидел еще совсем недавно. Это как-то дико сочеталось с новыми панельными домами. Хуже бы смотрелся лишь луноход на площади перед дворцом.
И все же от прогресса никуда не деться. Под аркадой старого торгового двора, завешенного восточными коврами, в самом сердце наконец-то достигнутого нами Востока - мы вдруг услышали Битлз...
На железнодорожном вокзале бурлил обычный вялотекущий кошмар из-за билетов, сопутствующий мне в любом путешествии, напомнивший мне и Казань, и Барнаул. Милиция влезла в очередь, разнимая дерущихся, отстаивающих и сопротивляющихся праву на внеочередность. Внеочередность апеллировала к ветеранской книжке и смело нападала на человека в форме.
Восточные люди не знают понятия очередь. “Все первые”, - комментирует местная белая женщина на автобусной остановке сквозь мелькание локтей и гвалт свалки.
- Вы приехали отдыхать, а я спешу по делам. Мне в детсад нужно! - был ответ, объясняющий необходимость оттереть меня плечом от дверей долгожданного автобуса.
Ну, что ж, еще чуть-чуть отдохнем на остановке.
От нечего делать следили за битвой на стоянке такси, где машина с шашечками на глазах превращалась в общий вагон, в котором ехали аж в восьмером, с детьми, причем в нарушение всех правил три человека сидели впереди. Но и такая чрезвычайная езда есть счастье самых наглых и быстрых. Машина отъезжала с открытыми дверьми, с торчащими из них ногами и руками - пытаясь уйти от новых седоков, впрыгивающих в нее на ходу.
Нет, здесь не было вкуса жизни. Молчу про азиатов, но местные русские... Они терпели южную жару, как в другом случае терпели бы стужу. Никто не наслаждался, никто не нашел и не использовал эту жару и голубое небо в радость.
Поезд поутру напомнил движущийся склеп людей. Уже давно солнце, давно всюду жизнь, но настырный разогнавшийся поезд несет вдаль бесчувственные тела темных узбеков, сверкающих голыми пятками, в оцепеневших, жалких, исполненных покорности позах.
Городские, более живые, утомляли своим любопытством. Им все охота было знать, откуда добралась в их медвежий угол такая диковина, как я, кто оказал им честь посетить их захолустье, или кого захолустье одаривает честью принимать у себя? Они напоминали детей, и так же по-детски несерьезно относились к своей жизни и своей земле. Они ее плохо знали и, видимо, мало ею интересовались, принимая в “чистом” виде, как есть, как наследство от предков, хотя и с голословной любовью.
- Из самой Москвы? - то и дело переспрашивали они. Очень важно, чтобы из самой, а не, скажем, из пригорода или откуда-нибудь еще. Это значительно хуже: некоторые из них сами там служили в армии. Но если из самой Москвы, тогда уже все можно: иметь волосы мужику, ходить в мини-юбке и без бюстгальтера девушке. Можно быть нетаким, можно быть самим собой. Тебя все равно будут уважать - ты же из самой Москвы!
Русские в поезде, занесенные в эти края, говорили об ужасном национализме и скуке. В Бухаре один клуб, три более менее больших кинотеатра и вот только что открылась первая танцплощадка. В Кагане, маленьком привокзальном аппендиксе Бухары - не то. Его издавна облюбовали европейские русские, селясь вокруг ставки русского правителя Средней Азии, в то время как в Бухаре, в 13 километрах, жил и правил свой Бухарский Эмир.
Театр - местный, национальный, на узбекском языке. И лишь иногда залетает что-нибудь вроде Хабаровского - и тому рады. Жаловались на жару, жили при кондиционерах, лучшие из которых - мокрые простыни, которыми накрываются на ночь. Некуда выехать отдохнуть, окромя озера в сорока километрах. Зато почти весь год жрут овощи и фрукты.
Бухарской молодежи некуда пойти, поэтому они организуют сборища и залазят в чужие пустующие квартиры и подвалы, и занимаются в них тем, от чего у пятнадцатилетних узбечек родятся дети. При этом в детдома и приюты очередь, ибо традиция иметь много детей, особенно мальчиков, не иссякла, а сил растить уже нет. Вот недавно был случай: узбечка сожгла себя, - хладнокровно грузит нас соседка.
Говорят про парадоксальное здоровье и выносливость местных детей. Даже зимой можно видеть их голыми, босиком и лишь в шапках на головах бегающих по улице.
Может быть, холодом детей и не замучишь, но вот поездом - запросто. Смотреть на страдание детей в поездах невыносимо. Героическое безумие или необходимость - везти в этакую даль по дикой жаре малолетних детей, кричащих, плачущих, болеющих, ползающих и на двое суток теряющих контроль. Уставшие родители пытались его поддержать шлепками, подзатыльниками, страшными окриками и ругательствами: “заколебал!”, “свинья!”, “сволочь!” и даже хуже - за оброненное яйцо - падающими, как Божий гром, на жидкошеие стриженые головы скованных оконным переплетом и отеческой, все более ожесточающейся, заботой детей.
Параллельно проводники стремились превратить плацкартный вагон в общий, беспрерывно подсаживая на каждой станции попутчиков, ехавших на малые расстояния и оседавших в нашем купе. Проводник как бы оказывал людям помощь, но имея за это мзду с одной стороны, и за наш счет - с другой.
В тамбуре вагона “Бухара-Волгоград” разговоры все о тех же “нетрудовых доходах”. Всем интересно, как они будут отличать доходы трудовые от нетрудовых?
- Если у меня в заборе дыра и доска валяется, что ж мне не поднять и не заткнуть? - спрашивал высохший мужик средних лет.
- Задом своим заткни! - засмеялся его приятель.
- И если мне мать корму для скотины привезла, что ж она - воровка? - продолжал вопрошать он кого-то. - У соседа украл - руку сечь надо, а у государства... - он махнул рукой. - Если бы что было, и было бы на что, кто б воровать стал...
Они вспомнили конокрадов и порядки прошлого. Третий, городской, здесь же покуривающий, приветствовал постановление и радостно грозил им карами. Двое деревенских огрызались и клялись, что все останется по-прежнему.
После Азии появление неподвижных гладей воды производит впечатление фантастическое и вызывает прямо физиологическое вожделение. За Царицыном, где мы снова вышли на трассу - уже Россия - вновь и вновь озера, речушки, лужицы. И вдруг, как стена, налетают леса с заросшими оврагами, болотами и тенью, тенью...
А потом, как положено, дождь, солнце, опять дождь, лужи, вечер, скошенные поля и стрекот кузнечиков.
В деревнях на обочинах старухи продают ведрами яблоки и сливы, но нам нельзя останавливаться, нам нельзя оглянуться, как Орфею, а там, где мы снова стоим на земле, яблок нету, нету добродушных старух, а лишь лес, поля, тучи. Они сгущаются, опять начинает капать, и мы обсуждаем, куда нам идти и есть ли шанс в оставшиеся часы куда-нибудь доехать?
Мы стояли на объездной у Тамбова. До Москвы еще четыреста. И тут нас подобрал какой-то сумасшедший на “жигулях”, который хочет еще сегодня попасть в Каширу. У него совершенно неведомая мне отечественная эстрада, достигшая апогея маразма за те последние несколько лет, что мне не доводилось слушать этот род музыки, сделавшая огромный шаг к обессмысливанию и опошлению слов и звуков, помноженный на полную бездарность певцов и музыкантов.
Это своего рода совершенство слушали мы во всех машинах, что говорит о каких-то особых путях приобретения музыкальной продукции простыми людьми, абсолютно неизвестных нам. И она гремела, гундела, застревая в мозгах, ужасая и веселя - и выплевывала, треща и хрипя, перл за перлом, раз за разом превосходя последний предел идиотизма. Затянись путешествие дольше, я бы попросил водителя высадить нас в любом поле, с перспективой в нем же и ночевать. Честное слово, я не испытывал никакой благодарности за эту любезность - довезти нас до Каширы. Ему следовало бы нам доплатить за перенесение столь исключительной пытки.
В Кашире мы стали гадать: сесть ли в еще ходящую электричку или стопить дальше? Машинально поднял руку - и опять удача. КАМАЗ, а в нем водитель-хохол, веселый и грубый, с приятелем. Они катили нас до двух ночи. Уже при въезде в Москву машину стопанули у ГАИ. Водила ушел объясняться и отсутствовал не меньше часа. Мы из солидарности ждали и хорошо замерзли, продуваемые сквозным московским ветром.
Вернулся наш веселый усатый водитель - сильно не веселый и с бранью на устах. Дал полису четвертной, чтобы тот отстал и отдал права: наш хохол перевозил в кузове чужую машину без документов. Зато и довез почти до дома, как такси - никогда еще такого не было!
И уже потом я сообразил, что за все путешествие ни разу не был остановлен полисом, что уже примечательно и почти необъяснимо, словно в июне на Кавказе я избыл всю карму на месяцы вперед.
Но эта мысль почти не прозвучала на поверхности сознания. Мы сразу легли, страшно усталые. Как приятна и странна эта белая постель, этот сугроб покоя, стены и крыша, крепко сошедшиеся над тобой - после почти месяца голого неба или эфемерной ограды палатки.
Зачем мы путешествуем, зачем мучаем себя?
Камню, натурально, все равно, на чем лежать. Его существование ничем не связано с окружающим. Живое же накрепко повязано со всем миром. Оно должно выяснить для себя границы реальности и понять, как далеко простирается мир, известный лишь по слухам.
Всякое путешествие - это имитация побега из тюрьмы. Отрезанные от остального мира, мы ищем услады в отыскании незагаженных заповедников по углам собственной родины. Всякое путешествие оптимистично, потому что свидетельствует о реальности и разнообразии вариантов жизни. Путешествие - это хорошо продуманная работа, где нет суеты, нет рутины, нет однообразия, нет старых болевых точек, бередящих контуженую душу.
Иногда мне кажется, что я путешествую, сбиваю ноги, голодаю и таскаю железный рюкзак за спиной лишь для того, чтобы на весь остальной год завоевать себе право валяться на диване, читать, трепаться и гонять чаи с приятелями, быстро, с соблюдением всех военных предосторожностей, преодолевая открытые пространства московских улиц. Не будь этого лета и этого рюкзака за спиной, отчаяние однажды убило бы нас. Но мы находим дорогу и бежим, а в бегущих труднее попасть.
Часть 6. ЧЕЛОВЕК НА ДОРОГЕ
Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу...
С. Михалков
Пока ехал на вокзал - в который раз обдумывал однажды пришедшую в голову странную сцену: таинственные существа играют в крикет человеческими головами в горной долине. И это случайно подсмотрел герой, заблудившийся в этих горах, как Рип Ван Винкль. Головы были все как на подбор красивы, не обезображенные тлением и страданием.
А вокруг стояли люди. Они чертыхались и толкали рюкзак, советуя с такой штукой ездить в такси. Идиоты, - вставлял я им про себя, - это не рюкзак, а фальшивый горб с контрабандно провозимой свободой, бутон будущей независимости (от вас)! Я на несколько недель стал улиткой, носящей на спине свой дом. Но ходить с домом в общественном месте, в другом доме - в этом есть какой-то метафизический нонсенс.
В последнюю минуту вскочил в тульскую электричку, буквально взяв ее штурмом - цепляясь за всякие выступы и приспособления кабины машиниста.
Путешествие началось. Мне предстоит проехать без билета, гостиниц, нормальной еды и прочего полторы тысячи километров. Полторы тысячи километров чистой авантюры.
В электричке не просторнее, чем в метро. Зато скоро у меня будет простору вволю. Я перестану быть черепахой на берегу, став естественным и легким в своей дорожной стихии. Предвкушаю это с волнением и истомой. Пока пользуюсь случаем и читаю Сергея Соловьева. Что реально движет историю: вхождение народа в эпоху культуры, как думал Соловьев, или смена социально-экономических формаций, ведущая к смене государственного строя вообще?.. Вся моя жизнь доказательство того, что формации трогать не надо.
Вылезаю под Серпуховым - здесь, если верить моему стопнику, ближе всего к трассе.
Стоя на дороге, я проверяю человека на способность к авантюре или любовь к ближнему. Ни того, ни другого у автовладельцев не наблюдается. Пустые сытые лица. Машины выдают только ублюдкам. Если и есть любопытство - то очень осмотрительное: не укусил бы. Все объясняется, наверное, еще проще: они трясутся, что я им испачкаю чехлы на сиденьях. И суеверно боятся, что, открыв дверь, они впустят внутрь их маленького железного рая вихрь беспредельного хаоса, который бьется снаружи, угрожая гарнизону крепости на колесах.
Начинается дождь. Я спокоен: уж кто-нибудь да подберет. Даже в первый мой стоп летом 82-го года в Прибалтику, в который я пустился в одиночку и налегке, - я живым добрался до цели. Новичку страшно фартило на друзей и ночлег. Бог трассы был милостив к новобранцу, позволяя ему снимать сливки веры. Ни день пехом, ни ночь на неизвестном переезде в стогу сена - не поколебали моей решимости. Я осваивал новый опыт, идея новой жизни грела впотьмах. А также сознание того, что я зарабатываю очки в избранном кругу.
Стоп, хичхайк - обычный и традиционный способ передвижения хиппи. А двигаться для хиппи необходимо, как пить. У него как у кварка - нет массы покоя. Хиппи вечный бродяга, лишь непринадлежащие никому вещи - природа и идеи, блуждающие в его голове, - интересуют его. На трассе, под открытым небом, в ста километрах от любого жилья - он свободен. Он может выбрать любое направление и поехать вперед без вещей и денег, вольный и живописный, как цыган.
Теперь я был уже опытный боец, наездивший стопом тысячи километров по совковым дорогам, стопная практика и философия стала любимым приколом, и мало вещей на трассе могло меня удивить или испугать.
Даже в этом году я уже скатал с Ритой и Малышом в Питер, скатал очень удачно, хотя выезжали из Москвы мы в одних маечках, а на развилке на Новгород пошел снег. Вернулся в Москву я так же очень удачно - на третьей бесплатной полке в московском поезде.
И теперь я ездил не с сумочкой, а запасался палаткой и спальником, чтобы встать на ночевку в любом месте. Это был самый лучший дом, не требующий ни мебели, ни платы за землю. На мне была двойная куртка, сшитая из военного кителя и рубашки, а на голове специальная панама, сшитая в три слоя из старых джинс, предназначенная защитить сразу и от солнца, и от дождя. Она вызывала у водителей не меньшее изумление, чем весь мой неуставной прикид в целом.
Водители ползут мимо, разбрызгивая воду. Им отлично виден я, бредущий под дождем и упрямо поднимающий руку при их приближении. Им хорошо там внутри. Вот когда постигается душа народа.
Дождь не кончается. Я медленно бреду в сторону Крыма. Через час такой погоды в моей славной панаме, как в корабле, образуется течь.
Самой сострадательной оказалась женщина за рулем ГАЗа. Она могла провезти меня лишь несколько километров, но не захотела дать мне подохнуть.
Водружаю мокрый зад на сиденье, сверху мокрый рюкзак. Это была передышка.
Она с интересом смотрит на меня и включает печку, чтобы я хоть чуть-чуть обсох.
- Я только до развилки, - еще раз предупреждает она.
Мне все равно. Хоть пару километров без дождя, хоть двадцать минут в сухом месте. Интересное начало путешествия. С тоскою жду, когда появится эта развилка. Дождь не кончается, и вновь на мокрое шоссе хочется, как в омут.
Развилки пока нету, и я пытаюсь резко прийти в себя, сконцентрировать внутреннюю силу - и не заболеть. Может быть, водительница пугала меня? Хорошо б, коли так.
Увы. Услужливо остановившись еще до развилки - перед горкой, она объяснила, что на подъеме меня брать не будут.
Но меня не брали и на спуске, и даже на ровном месте.
- Под горкой они разгоняются и тоже не останавливаются. Я прошел уже несколько километров по этим горкам, - отвечаю я, спрыгивая на мокрое шоссе.
Так и есть, выбранное ею место не оказалось местом силы и ничем не привлекало водителей к моей персоне. От дождя и холода рука бойца онемела. Поднимаю ее все медленнее и ниже. Какой толк - все равно не остановятся!
Я пытаюсь вспомнить стихи, подходящие к случаю. Выскакивает Шамиль: “Я индикатор вашей честности...”. И почему-то вспоминается Тютчев с его бедной природой и нищими селеньями. И отвратительным климатом. Предпоследний день мая, но обложной дождь и холод, как в октябре. А я-то думал о тепле и солнце! Сорвался, не дождавшись лета.
Становясь все более мокрым и неавантажным, я не стал внушать больше жалости. Куртка, кеды сделались совершенно “на воде”, словно я искупался в одежде. И я размышлял: сколько еще продержусь?
Встречные машины обдавали меня облаком брызг, задирали панаму и лишали последнего утешения.
В конце концов на мой очень призывный жест поддался драйвер из Чувашии. Втиснувшись в старенький КАЗ, я был оглушен шумом двигателя и воем приемника, который забивал последние участки тишины. Из щелей дуло, на полу плескалась вода, и я никак не мог согреться. Ноги так закоченели, что я полез за шерстяными носками. Шерстяные носки на мокрые, да еще в мокрых кедах - не большое утешение. Я серьезно решил сойти с трассы в Туле и сесть на поезд. Я так и сказал своему водителю: до Тулы.
Однако мой драйвер шел вокруг Тулы по объездной, и чтобы попасть в Тулу, мне опять надо было выходить под дождь. Мои стопные, высиженные в Москве желания не совпадали с теперешними, и меня страшила мысль, что уехав сейчас от Тулы, мне через некоторое время снова придется ловить под дождем машину. В свою автостопную звезду я положительно перестал верить.
Но под Тулой дождь неожиданно кончился. Я сразу как-то взбодрился, махнул рукой и поехал дальше.
...Как на людей действует ручка в руке. Как в прошлом году я заловил бешено мчащегося домой в Калинин частника-чеченца, теперь меня посадили в КАМАЗ третьим, на что я даже не рассчитывал и что вообще никогда не делается, если только люди не едут парой.
- Откуда? - спрашивает драйвер.
- Из Москвы.
- Что, вот так из Москвы и бредешь пешком?
- Иногда на транспорте, - усмехаюсь я невесело.
- Это что - спорт такой?
- Это когда машин нету. А вообще-то на попутках.- А зачем так вообще путешествовать?
Хочу, но не могу ответить водителю, что я путешествую автостопом, потому что так “дешево и сердито”. Говорю, что интересно и познавательно. Что тоже верно, хотя в данную минуту я в этом сомневаюсь. Он тоже. Я стал с отчаянием объяснять, что испытываю судьбу. На это можно возразить, что испытывать судьбу можно и более простыми способами. Более простыми - да, но не более красивыми. Всем же остальным советую: летайте самолетом. Это быстро и дорого. И не без риска - погибнуть вместе с красивой и любезной стюардессой.
Он едет в Запорожье, так что, если ему не надоест, везти меня будет долго. Это невероятная удача, о которой я и не мечтал.
Многие участки на ленинградской, ростовской и харьковской трассах - прямые до самого горизонта, словно проложены по линейке. Могли здесь линию провести, могли рядом, разницы нет. Ни историческое, ни экономическое, ни иное другое влияние не исказило и не отклонило пролетающую по этой пустыне прямую. Здесь просто нет никакого влияния или притяжения, словно в невесомости.
Но в орловской и курской областях дорога петляет по деревням, не минуя, кажется, ни одной, - наверное, для того, чтобы в дождливую погоду здесь был хоть один проезжий путь, и меланхолический воз с сеном, за которым мы в данную минуту ползем, мог не беспокоиться о своем будущем. Так мы стали частью сельской идиллии.
Мой драйвер чешет из Татарии, обкатывает новую машину. Он вообще любит брать людей. Трое, четверо в кабине - ему по фигу. Только веселее. Ему бы автобус водить.
В отсутствие автобуса сойдет и КАМАЗ, и откуда ни возьмись на нас насели деревенские стопщики. Они немолоды, суровы, неразговорчивы. За езду иногда предлагают деньги, чем освобождают себя от всякой формальной благодарности, в которой всегда рассыпаюсь я, в отсутствие чего-либо более вещественного.
- Возьмем? - спрашивает меня драйвер, словно мое слово решающее, кивая на стоящего на обочине мужчину с подковообразными усами и в темных очках, с двумя батонами в руках. Я гостеприимно распахиваю дверцу.
- Откуда вы такие? - Он с изумлением смотрит на меня и не спешит сесть в машину.
- Батя, все хоккей! - воодушевляет его мой драйвер.
Ссадили мужика - захватили демобилизованного солдатика. Кажется, единственные, кому мы отказали, была крестьянская пара, мужчина с женщиной: еще двоим уже не было места. Зато под Курском подобрали полную тетку с букетом сирени, тюльпанов и зеленых веток. Теперь нас в кабине четверо: я сдерживаю давление справа, слева упираясь в ручку скоростей. Поговорили о погоде, редиске и грибах. Слава Богу, эти двое перестали доставать меня трепотней про баб. Заводилой был мой драйвер (все дальнобойщики страшные эротоманы). Я же сидел посередине, на стыке информационных потоков. Изголодавшегося солдата этот вопрос, в отличие от меня, сильно волновал.
Промелькнул и скрылся милый городок Тросно с рестораном “Тещины блины”. И, в общем, все хорошо. Я еду на одной машине, словно в награду за дурное начало, которое я все-таки выдержал. Начало в путешествии - всегда самое трудное. Я высох, дождь кончился и не обещает начаться вновь, и я готов хоть сейчас сойти на трассу и ждать новую машину.
Мне легче, когда в машине много народу. Водитель оживленно болтает с попутчиками, не обращая на меня внимания, и я могу думать о своем, не мучаясь от дурацких бесед или от того, что не выполняю свой долг - развлекать водителя, отрабатывая дорогу. Впрочем, иногда бывают беседы весьма познавательные. Дальнобойщики - самые свободомыслящие и независимые из пролетариев. Они индивидуалисты и, подобно таксистам, давно живут в мире рыночных отношений.
Осторожно заговорил с моим водителем о совдепе. Если я более-менее знаю мнение интеллигенции, то мнение народа темно и загадочно, как сама его душа. Мой драйвер в принципе согласен, что из-за коммунистов мы сильно отстали от Запада. Нам надо многому у него учиться. Но бороться он считает бессмысленным: совдеп непобедим. Даже Гитлер его не смог одолеть.
Да, Гитлер оказал нам медвежью услугу: теперь не дай Бог заикнуться, что ты пацифист и против войны. Теперь война - это широкое поле для проявления фальшивого гуманизма и страдальческого патриотизма. И совдепу понадобилась новая война, новые ветераны, новая память и новые свихнутые мозги. Одного из этой гвардии я встретил пару лет назад на журфаке МГУ, поставленного во главе отряда, чтобы защитить от нас аудиторию, в которой выступал Аллен Гинзберг. Из МГУ нас выкинули. Понятно: с нами воевать - не с моджахедами.
. . .
Дорога на Харьков - с еще более дурным покрытием, чем всегда. Зато до Курска не было никаких проблем с дизельным топливом. Потом его не было до самого Харькова. Но сама местность побогаче и поразнообразнее, чем в той же Воронежской или Ростовской областях. Чувствуется жирненькое черноземье.
У нас давно нету попутчиков, и драйвер начинает развивать любимую свою тему со мной.
Я сразу сказал, что у меня есть жена и нет побочных связей. И что живу в Москве.
- Квартира-то своя?
- Коммунальная.
- Соседей много?
- Да нет, одна женщина с ребенком.
- Хорошая?
- Ну, как сказать...
- Ну - не уродка?
- Нет, совсем.
- И ты ее как - дерешь?
- Нет.
- Нет?! Ну и дурак! Я бы ей обязательно вставил.
- Зачем?
- Как зачем! Ну, ты даешь! Слушай, дай адресок, я приеду в гости и отдеру ее!
Он был готов отодрать всех и все, что плохо лежит. Было видно, что человек с этой темы не скоро слезет. Я спросил: а как же его жена?
- А что жена? Я ее тоже деру. Она не в обиде.
- А если бы она так же делала?
- Как - так же?
- Ну, с другими мужиками.
- Убил бы, - режет, не моргнув глазом. - Ну, не убил бы, а отфуярил до полусмерти - и выгнал, пускай катится на х... Но она у меня хорошая, - кончает он. - А твоя?
- Моя тоже.
- Давно живете?
Я ответил.
Драйвер неожиданно сказал, что он за то, чтобы мужчина и женщина прожили бы друг с другом несколько лет, прежде чем расписываться (эту мысль он позаимствовал из авторитетного источника - официальной газеты). Меньше бы было разводов.
Я немедленно согласился (редкое для меня единодушие с официальной печатью):
- Все умные люди давно так живут. - Вместо нашей газеты я привел мнение американского профессора. И закончил: - Вообще, людям лучше вступать в брак в достаточно несопливом возрасте.
- Одно плохо, - посетовал мой драйвер. - Хочется самому вскрыть банку. Знаешь, как в анекдоте... - И он рассказал соответствующий анекдот.
Я возразил, что у молодых да юных еще нет настоящего характера и они очень меняются со временем, тем более от брака.
- Это правда, - с горечью согласился драйвер. - Вот моя такая была до замужества - веселая, бойкая! А теперь баба бабой...
Господи, какая это огромная страна! Проезжаешь километр за километром, сто километров, двести - и ничего не меняется: тот же пейзаж, те же деревья, те же колхозы, те же лозунги. Одно единственное выражение для всей страны. Тысячемильная гримаса, заметная, наверное, даже из космоса...
С совдепом бессмысленно бороться и потому, что нету конца, за который его можно было бы схватить и тряхнуть. Он настолько слился с им самим созданным пейзажем, что биться с ним так же бесполезно, как стрелять в солнце. Во многом совдеп - это уже народный характер, которому знакомо и любо быть нищим, ленивым и суровым. Совдеп слился с серым небом, со скудной травой, с дремучими лесами. Надежды рухнули, но совдеп спасает более сильный козырь: неумение русских породить достаточное количество интеллектов, гуманных и смелых, чтобы приподнять этот народ, из лона которого они могли появиться только трагически, вопреки нежеланию и ярости последнего.
Дальнобойщики люди не только свободные, но и смелые. На дороге случается всякое, поэтому мой драйвер всегда держит под сиденьем монтировку. Ночевать же предпочитают все вместе, чаще недалеко от постов ГАИ или больших городов. Люди знакомятся, вместе едят, пьют и трепятся. Они здесь со всего совка, им есть что порассказать. Я, как рыба-прилипала, тоже становлюсь свидетелем и участником ночевки.
Ночь в машине: оглушительно поет соловей, и огромные звезды.
Шоферы на стоянке обсуждают сенсацию, услышанную кем-то по радио: бундовский летчик перемахнул границу и беспрепятственно сел в Москве на Красной площади. Власти ошизели от этой так легко удавшейся наглости. Если каждый неумытый западный шалопай будет так просто нарушать нашу исторически неприступную границу, то что же останется от железного занавеса и былых совдеповских ценностей? Бедный спортивный самолетик обвинили в нарушении суверенитета огромной страны, и виновных в допущении этого сняли: вплоть до министра обороны. Совдеп бушевал. От армии требовали усиленной бдительности и истребления расхлябанности и попустительства.
Драйверы посмеиваются: сука - снял, небось, пока летел все объекты!
Это было логично: снял все объекты и сел в Москве. Ничего лучше они придумать не могли. Впрочем, они не сильно переживают: им в кайф, что военные обосрались.
Мой драйвер - оригинал: предположил, что немец сделал это просто на спор.
Цветущие каштаны - это, оказывается, очень красиво. Где-то под Харьковом мы промчались по целой аллее цветущих толстыми свечами прекрасных каштанов.
Еще под Харьковом попали на новооткрытый автобан. Отличное покрытие, машин нет, знаков нет, тумбы под фонари уже начали разваливаться, так и не дождавшись этих фонарей. Автобан радовал нас километров семьдесят и кончился так же внезапно, как и начался. Снова унылая однорядка, где обогнать труднее, чем перелететь.
День уже клонился к вечеру, когда мы добрались до Запорожья. На окраине города драйвер меня высадил, объяснив, что едет на автобазу. Мы попрощались, мой долгий трип кончился.
На городском транспорте проехал через город. Это нетрудно в городе с четко выраженной главной улицей. В маленьких городах она есть продолжение трассы, в Запорожье трассу пустили по окраине, так что ее нелегко найти. Кто едет после работы домой, кто веселиться, я еду в поле, ловить новые колеса.
Однажды Диогена спросили:
- Зачем ты поднимаешь руку, когда нет машин?
- Приучаю себя к отказам, - ответил Диоген.
...Убрал постороннюю железяку с обочины, чтобы улучшить посадочную полосу. Но потенциальные попутные машины были укомплектованы бабами в кофтах и платочках. У такой консервативной публики благотворительность на дороге не в обычае.
Грузовиков нету - рабочий день кончился. Идут частники да тракторы. Частники - почему-то (или естественно) одни “запорожцы”. А “запорожец” никогда не идет на свист. Эта машина преимущественно голодранцев с большими семьями. Поэтому они всегда доверху забиты барахлом и домочадцами, использующими машину в качестве ломовой телеги, куда сверх барахла палец не влезет, и оттого, с полным алиби, они могут красноречиво сокрушаться из-за стекла по поводу невозможности взять на борт такого очаровательного попутчика, как я.
Наконец на каком-то местном автобусике еду в обществе возвращающихся с работы крестьян. Кругом мазанки и цветущие сады. Это богатейшая в мире земля, отчего и совдеп здесь менее тощ. Жилье, сады, заборы - все крепче, чище и помноголюднее. Реальный крестьянский быт сохранился на Украине лучше, чем в России.
Приазовские города ничем не примечательны. Но в Мелитополе стоит настоящий шатровый цирк “шапито”, с верхом из брезента, натянутого на многочисленные распоры. Этакая палатка на тысячу человек.
В Мелитополе вписался без билета в маршрутный “икарус” - затерялся в хвосте среди чемоданов, забившись для страховки за вделанный здесь холодильник. Дело не в деньгах, которые у меня все же были, но ехать бесплатно - честь автостопщика. Можно ехать на чем угодно: машинах, автобусах, электричках, поездах, но главное - ехать бесплатно, на халяву. Именно тогда ты чувствуешь, что весь мир принадлежат тебе, словно собственная квартира, по которой ты ходишь, никому ничего не платя. Платя кому-то деньги, ты признаешь существование хозяев расстояний. Но единственный здесь хозяин - это ты.
Не трудно бродяге увидеть свет:
Ему не нужен билет.
На медные деньги объедет мир
Непрошеный пассажир...
Постепенно я успокоился и перестал думать о разоблачении. По наглости я даже стал читать, словно имел все права здесь ехать. Так незаметно автобус ввез меня в Крым. Крым начинается с чудес: автобус летит по сплошной воде аки по суху. Инициация - прохождение сквозь воду. Так едущие на Кавказ проходят сквозь горы.
Я вылез в Джанкое уже ночью на случайной остановке, с беспокойством миновав водителя, который меня опять не заметил, словно я утратил материальность.
Итак, я был в Крыму. Первый раз за десять лет. Второй раз в жизни. Крым встретил меня дождем. Впрочем, было не холодно. Я расстелил спальник и улегся спать на лавочке под козырьком остановки.
Утром началось лето.
Раннее утро. Опять без кофе и душа. Это не ново. За последние годы я сильно привык без комфорта. Надо было выбирать: под крышей, с людьми, с их порядками и дрязгами - или без людей, но и без крыши. Мне это больше нравится. Собственно, тут никто не избалован жизнью, поэтому все такие крепкие и злые.
. . .
Исследование о кликухе (на трассе):
Словно при крещении или инициации, вступая в Систему, адепт получает новое имя, отказавшись от прежнего мирского. Бывают странные варианты: мы слышали о герле с кликухой Фтататита, мы были знакомы с герлой с кликухой Бабушка Удава. Особенно везло иногородним: они получали прямо графские титулы: Паша Смоленский, Толик Гродненский, Макс Казанский.
Это имя, или кликуха, подчеркивает принадлежность к братству, и наличие кликухи ценится. Хиппарь без кликухи чувствует себя неполноценным. Кликуха как бы вмешивается в предопределенность паспортных данных. История начинается вновь.
Важно, что кликуху всегда дают. Существует телега, как знаменитый Москалев решил придумать себе кликуху и стал требовать, чтобы все его звали Хеопс. И все стали его звать Хеопс-Твою-Мать.
. . .
Хан Гирей был не гостеприимен ко мне в Бахчисарае: по понедельникам он не принимал. Думаю: если бы Пушкину отказали на тех же основаниях и вместо фонтана и тени безвременно ушедшей красавицы он увидел бы толстую привратницу, одетую в шинель с чужого плеча, - он написал бы что-нибудь соответствующее в книгу жалоб, а не поэму. Однако в его время еще не додумались превращать обиталище - в музей, то есть создавать массу неудобств. С любым музеем у меня всегда одно и то же: в Питере, в Новгороде, в Баку, в Самарканде... - музей закрыт, потому что выходной или санитарный день, или ремонт, или случайно открыт, да сто человек очередь, пять туристских групп вывалило прямо передо мной из автобусов. Да я и не люблю музеи: все в них ненатурально, сделано людьми без фантазии, которые хотят внушить тебе уважение к случайным вещам, попавшим сюда совсем из другого места и времени, сунутым в музей до кучи или иллюстрации какой-то посторонней идеи. Это напоминает бедную антикварную лавку, только вещи эти не продаются, да ты и покупать бы их не стал.
И только с бесхозными и осыпающимися реликвиями все в порядке - за исключением проблемы добраться до них. Таковы новгородские и владимиро-суздальские храмы.
Но есть вероятность, что Пушкин так же не видел фонтана, как и я, так как всю его примечательность осмеял попавшийся мне драйвер-татарин. Он долго и яростно опровергал славу фонтана, сравнивая его с цедилкой на вокзале.
Собственно, хан Крым-Гирей приказал сделать не фонтан, а глаз, из которого вечно течет слеза. Смысл был в том, чтобы заставить камень плакать, сокрушаясь по потере прекраснейшей женщины. И мастер сделал глаз-цветок и улитку. Вот и все чудо. И если кто-то искал фонтан вроде версальского, то он ошибся дверью. Так что, может быть, Пушкин действительно не увидел фонтана, но то, что он увидел, дало ему верную ноту.
Под Бахчисараем селение под названием “Приятное свидание”. Кто-то когда-то здесь приятно свиделся. Боюсь, эти кто-то жили давно, прежде наших дедушек, и теперь не тянет попробовать. Потом будешь думать, как ноги унести.
Странно начинается лето. Всюду засохшие деревья, засохшие аллеи, засохшие сады. Льют дожди, вдруг наступают холода - и деревья умирают. Надеюсь, это не последствия позапрошлогодней катастрофы.
Тем, кто не умирает сам, помогает человек.
В Крыму все еще под впечатлением прошлогодней рубки виноградников, многие из которых древни и уникальны. А ведь чтобы вырастить хороший виноградник, объяснили мне, надо шестьдесят лет. Заодно рассказали, как татары выращивают виноград: вырывают глубокую яму, на дно сажают черенок, засыпают. Когда он прорастает, засыпают вновь и так далее. Когда же он достигает поверхности - это уже могучее дерево.
От Судака до Коктебеля меня вновь преследовал дождь. Но он не помешал побродить и порисовать здешнюю генуэзскую крепость. Я залез на стену и смотрел на море. Море было суровым и малоэвксинским. Оно совершенно оправдывало свое название, добавляя в свой цвет еще и зловещий свинцовый оттенок.
Все это ничуть не напоминало курорт. Здесь не было ни пальм, ни фонариков, ни музыки, ни отдыхающих. Это была реальность, мало изменившаяся со времен строителей этих стен. Что было по-своему ценно. Если не удастся оттянуться, то удастся хоть что-то познать.
Всю дорогу тщательно экономя минуты, я легко тратил их здесь. Мне еще надо сегодня доползти до Коктебеля, условно конечной точки пути. Там меня не ждет ни оплаченный санаторный номер, ни веселящаяся в знаменитом месте тусовка. Рита с Малышом прибудут лишь через несколько дней.
В Лисьей бухте меня вроде бы ждет Принц, но к нему я поеду уже после посещения Коктебеля. Да и искать в конце дня, где эта Лисья бухта - уже нет охоты.
Я еду в Коктебель, нарочно говоря шоферам именно это старое название. Они понимают и везут. Так же по дороге в Питер я назло говорил “Тверь”.
Коктебель - сонное царство. Восемь вечера - и никого. Был соблазн: а не пойти ли мне в центр, посмотреть на курортную жизнь, поесть что-нибудь, отдохнуть после трех дней пути, послушать музон, наконец...
Центра я не нашел. Весь город состоял из нескольких улиц, и ни одна из них не вела к россыпям света и курортных радостей. Все было провинциально и убого, как в любом некурортном городе, сотню которых я оставил за собой на трассе.
В сонном царстве живут сонные люди. Живут как в доброе патриархальное время. Сидят по домам, смотрят телевизор, и больше им ни до чего нет дела.
Недостаток праздника - вот, что я ощущал во всех простых трудовых городах совдепа. Жаль, что Черное море - это не всегда праздник. Пожалуй, эта мысль составляла мою идею-фикс с шестилетнего возраста. Я рано почувствовал вкус к буржуазности и комфорту. Кафе, неяркий свет, расслабленный жест руки с сигаретой... И музыка... Наверное, момент музыки был самым важным - иначе как бы я смог миновать судьбу мажора - и стать хиппи, человеком, ценящим комфорт в равной степени с его отсутствием. Любовь к комфорту не проходит, но линяет перед еще более прекрасной и любимой шизой - свободой. Пожалуй, хиппи выбрал лучшую долю, потому что настоящего комфорта и тонкого попадания в стиль на обозримом пространстве кондовой не сыскать, а есть лишь грубейшие подделки. Но все же, приезжая на море, я привычным глазом ищу разноцветные фонарики в зарослях южной зелени и светящиеся в темноте кафе. Так в моих диких представлениях протекает настоящая жизнь, легкая, неотягченная доля каких-нибудь западных придурков.
Полночи я искал место для ночлега. Еще с вечера я как влюбленный обхаживал писательский Эдем. В воротах меня завернули. Не долго думая, перемахнул через стену: не знаю, чего я ожидал там найти. Нашел заросшие тропки, закрытые теннисные корты, светящиеся веранды, с которых раздавались голоса баловней судьбы и великих гениев земли русской. Редко, но попадались люди, испугано меня обходившие. Как и частники на дорогах, они тоже не любили посторонних, нарушающих их тихие возвышенные думы. Вряд ли меня можно было принять за писателя, даже какого-нибудь нового направления. И я все ждал, что кто-нибудь вызовет охрану и меня спровадят куда надо - за незаконное проникновение на территорию. И как-то так получалось, что ни одного подходящего куста или навеса, где я мог бы, кинув спальник, вздремнуть, не рискуя промокнуть или быть кем-нибудь найденным... Кажется, мной просто овладел стрем от усталости и голода.
В конце концов я переночевал под пожарной лестницей какого-то служебного здания. Было темно и грязно, моросило, бродили сторожа или какие-то случайные люди. И я все ждал неприятностей: в Эдеме тщательно отслеживают чужих.
Чуть свет я продолжил изучение города.
Пионерский лагерь “Восход” на западной окраине Коктебеля. На воротах огромными буквами: “Добро пожаловать”. Рядом с воротами табличка: “Прохода нет. Посторонним вход воспрещен”. Ворота наглухо закрыты.
Совдеп - это рассадник неравенства. Перед домом Волошина, который не терпел даже ограничительного столбика на пляже, глухая сетка и балюстрада. Вход строго по пропускам Союза писателей. Рядом закрытый пляж санатория “Голубой залив”: “Вход по курортным книжкам”.
Огромная территория Союза писателей красиво располагается за глухим забором с проходной у ворот. Там растут кипарисы.
Да что кипарисы - целый горный массив Карадага закрыт для посещения. Опять обхожу заборы, ищу лазейки. Чувствую себя везде лишним и незваным. Чтобы жить здесь, все время приходится лезть через забор и подозрительно оглядываться, не собирается ли кто-нибудь схватить тебя за бэк. Все оприходовано и разграничено: это для отдыхающих, это для пионеров, это вообще никак. Просто человеку, который сам по себе, радостей не отпускается. Красота и удобства предоставляются в качестве награды и поощрения. Если ты имеешь кучу денег, ты можешь уломать местного жителя, который на свой страх даст тебе кров, игнорируя штраф за нетрудовые доходы. Отдых на море - это тоже нетрудовой доход, если тебя не соизволили им наградить.
Если бы во времена Волошина или Пушкина было столько заборов - услышали бы мы когда-нибудь их голос с той стороны? На все эти “запрещено” хиппи лаконично отвечают: “Запрещено запрещать!” “Теще своей запрещай!” - хочется ответить мне еще лаконичнее языком моих драйверов.
- А в горы нельзя, - говорит мне женщина у дома со шлагбаумом.
Нельзя в горы - что за бред! С каких пор людям нельзя подниматься на вершины? А если меня ждут там боги?
Говорю им про Волошина, про то-се, потом плюю и обхожу их стороной.
Они по глазам поняли, что я не Волошин, наверх было сообщено, что граница нарушена. Вероятно, уже выслали людей на мой перехват. Но мне насрать. Я уже думал о другом. Доберусь ли я до вершин или не доберусь - какая разница? Я уже не добрался и, вероятно, никогда не доберусь до тысячи мест на этом маленьком глобусе. Еще одно поражение? Важно не быть побежденным в главном. Ведь я не прозакладываю душу за некие, даже прекрасные, частности мира. Мне важно лишь его общее. А этого они у меня не отнимут...
Смотритель шел мне навстречу и еще издали начал кричать, вероятно, предупреждая мое отступление. Я и не собирался бежать, продолжая нагло идти вперед - хоть немного выше к желанным горам. Поравнявшись, я лишь ответил на его тираду:
- Зачем вы знакомитесь на таком расстоянии?
Смотритель растерялся и захотел было воспользоваться моими документами, - но я не дал, чтобы не терять бессмысленно время:
- Разве вы милиция? Документы я показываю только милиционеру.
Тогда он повел меня на свой пост, дорогой пытаясь внушить мне сознание огромности моего проступка. Я не внушился, и после нескольких моих реплик об абсурдности защищать красоту для людей - от людей же, он замолк, пообещав, что там разберутся. Главный техник заповедника несколько раз назвал меня потребителем и мое отношение - потребительским.
- Ну, конечно, испотреблю я весь ваш Карадаг, кустика не оставлю. В таком случае посещение театра - тоже потребление. А также лесов, морей и прочего.
- Вы лишь болтаете языком и ничего не делаете.
- Это и есть самое важное дело - объяснять людям несправедливость применяемых к ним законов. А вот такое делание, когда ни до чего нет дела, и лишь бы мне платили зарплату - это и есть настоящее зло. Недопустимо, чтобы оскорбляли человека, а каждое “нельзя”, произвольно спущенное сверху, это величайшее оскорбление человеческой свободы. - Я прямо на пальцах им объяснил, как бессмысленно делать заповедники в людном месте.
- А если сорок тысяч будет сюда ходить, что останется? - возмутился главный техник.
- А если сорок тысяч будет не ходить? Это по-вашему нормально? Вы же плюете им в лицо! Если сорок тысяч лишены права пользоваться красотой, у них под рукой лежащей. Вы обращаетесь с ними как с детьми, несмышлеными и бесправными.
Но для этих защитников природы все люди - потенциальные разрушители, поэтому, спасая оленей и камень, который раньше вывозили отсюда на машинах, они просто запретили всем сюда соваться - и расхитителям и поэтам. Конечно, запретить легко. И если исходить из того, что законы нужно соблюдать, то с населением справиться ничего не стоит. Трудно только перенести всю массу этих бессмысленных законов и признать, что ты последовательно во всем неправ, а эти политиканы с четырьмя классами образования и липовыми заслугами - никогда не ошибаются. Или эти “защитники”, которые вольготно, никем не тревожимые, кайфуют здесь на природе.
Они пишут протокол, я читаю им лекцию. Но потом разошлись весьма мирно, и я даже понял, где находится Ичкидаг, куда я собираюсь ломануться в поисках Принца. Справедливости ради надо сказать, что этот протокол они никуда не отправили, ибо обещанный штраф из моей зарплаты так никогда и не вычли.
Мой приятель-монтажник из Ялты, с которым я познакомился на набережной. Обоссал дверь исполкома и получил пять лет за злостный цинизм. В 71-ом он встретил в Сочи хайратого, с волосами до пояса. Тот сказал, что растил пять лет.
Господи, басня какая-то! Монтажнику, небось, привиделось со страху. Теперь, будь он жив, он мог бы канать за патриарха. Для 71-го это было безумно смело, несравненно смелее, чем для меня теперь. Это было странно даже по несоветским меркам. В 71-ом ни Плант, ни Лорд не имели таких волос. Это просто необъяснимый феномен: наш хиппи, якобы, стал растить волосы раньше, чем мальчики, которые пришли в Хейт-Эшбери в “Лето любви” в 67-ом, - впереди планеты всей.
А мой ялтинский друг спрашивает - не знаю ли я такого? В 71-ом мне было девять лет, в двенадцать я впервые встретил сверстников - фанатов “Битлз”. Между тем хиппарем, человеком Самой Первой Системы, и мной, человеком Второй, живущим во времена Третьей - пропасть, заполняемая лишь легендами и воображением. Ялтинцу, конечно, этих внутриконфессиональных вещей не понять. Он имеет тщеславное желание, чтобы его хиппи (то есть я) был как можно больше волосат и ничуть не хуже того, которого он встретил в 71-ом. Мой фанатизм так далеко не простирается. И все же он заставляет достать и показать ему хаер. Надеюсь, я его не разочаровал.
Сам он обитает здесь у приятеля-художника. И теперь я иду знакомиться с “коллегой” - на дальний конец Коктебеля. Это, кажется, последняя улица в городе, дальше только поля. Распугали всех местных собак. А еще говорят, на хороших людей не лают.
Художник обитает знатно: в покосившемся сарае, где иной постеснялся бы держать гусей. Здесь две комнаты, заваленные приспособлениями для пьянства, сна, и работы: висят картинки, валяются тюбики красок столетней давности, присохшие к палитрам, и тут же рядом кастрюли, бутылки и всякий хлам. Художник отсутствовал. Но это не важно: мой новый знакомый тоже оказался творческой личностью - он пишет стихи. За бутылочкой сквернейшей самодельной бормотухи прочел мне кое-что, пафосное и малопоэтичное. И все-таки собрат.
Позже все в той же хибаре поэт-рабочий рассматривает перо:
- Правильно говорят, что раньше писали гусиными перьями вечные вещи, а теперь вечными перьями пишут говно.
Самокритично. Реплика звучит очень кстати под боком у союзписовского санатория.
Воспетый Гессе и Сольми ирис. Три лепестка раскрыты наружу, три лепестка куполом верх, словно эфемерный минарет, и внутри три совсем юных нежных лазурных лепестка дублируют три, развернутые вовне.
Элементарно и великолепно. Здесь человеку нечего прибавить.
Дом Волошина. Готическая мастерская. Прекрасный художник, подозрительно похожий на Рериха. Вероятно, не влияние, а сходное видение, сходная эпоха и настрой мозгов. (Кстати, ближайший крымский друг и приятель Волошина, художник Богаевский, действительно имел с Рерихом одну школу - Куинджи.) Голова египетской царицы Таиах, берестяные и деревянные туески, сделанные матерью, габриаки - корни и ветви прихотливой формы, выловленные из моря Волошиным и его гостями (от корней - псевдоним поэтессы). Зеркало в доме, которое отражало Горького и меня. Очень интересная конструкция дома. Чтобы попасть в мастерскую, надо подняться по наружной деревянной лестнице. Потом по внутренней лестнице на антресоли мастерской, где находится библиотека. С антресолей - снова наружу на веранду, и с нее по внешней лестнице на крышу-площадку (где Волошин ночью читал, паразит, гостям стихи...).
Предмет гордости совдепа и его язык: “К 1990 году мощность санатория возрастет до 1150 койко-мест”. Великий и могучий.
На коктебельском гриль-баре долго не мог понять цифру, обозначающую время закрытия. Стереотип не позволял увидеть в ней два ночи - это все равно, что встретить негра в русской электричке.
Я предполагал увидеть Коктебель более убогим и русским. Но он не русский, а украинский. В нем господствует белый цвет, и это придает чистоту и аккуратность. Впрочем, в нем есть один, но чудовищный многоэтажный монстр с чуть ли не единственным работающим магазином.
В своем лице я изображаю так необходимый вам Запад. Его можно не признать в любом другом обличье, но его невозможно безошибочно не признать в моем.
А вы морщитесь и плюетесь, понимая Запад лишь как гору магнитофонов и дешевого шмотья.
Там, в Москве, с развевающимся хаером рассекая по улице Горького, - казалось очевидным, что должность волосатого - украшение общества. Тонкий, изящный, с иконописным лицом и вьющимися по ветру волосами, трезвый, невозмутимый, не преследующий ускользающие блага, но спокойно хиляющий среди безумства с блаженной улыбкой освободившегося: он был уроком обществу в красоте и достоинстве, он был актером, играющим благородные роли...
Грязный, усталый, со свалявшимися волосами, спрятанными под куртку, понуро бредущий в пыли по обочине, я, наверное, больше похож на опустившегося бродягу.
Стоп богат на встречи. Если вы хотите много узнать о нравах и о совдепе - отправляйтесь стопом без надежды на ночлег.
Черная, или Святая гора в Коктебеле, Ичкидаг и Лисья бухта под Щебетовкой. Просто урок географии, предваряющий новый путь.
А френды еще говорят, что не надо объяснять им про нашу жизнь. Они же даже не понимают, что такое человек на дороге. Они еще способны подвезти голосующего сельчанина, заменяя никогда не доезжающий автобус, но что такое автостоп и кто этот человек с рюкзаком в попиленных джинсах, а то еще и с хаером - это они уже понять не могут и разевают рот, вместо того, чтобы жать на тормоз.
В Крыму, впрочем, берут довольно охотно, но от Щебетовки мне пришлось трахаться пешком несколько километров до моря, и ни одна сволочь не взяла. А потом, оставив за спиной какую-то научную станцию (ходили слухи, что на этой станции тренировали дельфинов-шпионов) и поселок Курортное, прошел пару километров по камням вдоль берега, иногда влезая в воду, прокладывая путь в Лисью бухту.
Трахался я напрасно.
За полтора дня до моего приезда (рассказали местные жители) Принца свинтили менты. Уж я-то знаю, какие предосторожности соблюдал Принц. Пограничникам он никаких хлопот доставить не мог, так как жил в горах под защитой оврагов, деревьев и облаков (я нашел его стоянку). Менты придрались, что он жил без прописки. Интересно, у кого здесь можно было бы получить прописку? У птиц, ящериц, рыб? Эх вы, голубые горы! Эх ты, синее море! Будто негры, мы лишены даже такой радости, как вольный воздух. Ведь мы ни у кого ничего не крадем. Нам не надо ни ваших женщин, ни ваших макарон, ни вашей музыки, ни даже вашего портвейна. Мы забиваемся в самые труднодоступные места и только просим: оставьте нас в покое!
Кого они хватают! Неужели им не ясно, что будь Принц хоть в чем-нибудь виноват, он бы никогда не носил такой яркой приметы, как длинные волосы. Но он виноват именно поэтому. И еще он потенциальный наркоман, тунеядец и диссидент. А это уже серьезное правонарушение.
Есть способ претерпевать трудности - смотреть на них, как на прошедшие. Каждая секунда - это уже пережитая секунда, и то, что было трудно пять минут назад - кончено и забыто. Ты знаешь, что завтра или через неделю будешь вспоминать произошедшее с тобой - без страха и обиды. Делай это прямо сейчас. Эта отстраненность является хорошим душевным наркозом, избавляющим от слишком острого наблюдения несчастий.
Когда я долго стою на дороге, после бесполезного крюка в пустое место, где я, словно герои “Звездных кораблей”, не встретился со своим другом, и никто не берет, и не известно, где я буду сегодня ночевать и что вообще со мной будет в ближайшее время - я пользуюсь именно этим способом.
Кончается мой второй день в Крыму. Я вернулся в Коктебель, который, я думал, оставил навсегда, и заночевал в гостеприимном сарае художника. По пионерскому радио объявляется “двухминутная готовность всем отрядам к торжественной линейке”. Повторили дважды для глухих. Что бы эта фраза значила? К чему эта профанация торжественности - чтобы люди не разучились подчиняться?
Каждый такой факт - это еще один кирпич в стене моей ненависти к совдепу. Они осквернили все. Христос не велел клясться вообще. Они додумались брать клятву даже с детей. Едва научившись читать, дети должны вскидывать руки и выражать готовность сделать то, что от них потребуют платные демагоги. Мало того, что они сквернят себя ложными клятвами. Их заставляют делать то, что они не понимают, что и взрослый едва ли поймет без двух стаканов. Мероприятия, справляемые коллективом, заменили обязательную церковь, и, оглянувшись назад, совдеп легко бы узнал себя. Но он как в рот воды набрал и не хочет сознаваться.
Они говорят: “Ты пользуешься трудом”. Я говорю на это: а разве вы не пользуетесь книгами, не смотрите картины, не ходите в кино? Разве не ясно, что на фабрике работает не тот же человек, который сидит в библиотеке? Разве не нужны вам те, которые знают, которые хранят узнанное, которые защищают достоинство людей, не способных постичь, где их надули и пнули? Разве не нужны те, кто разбирается в искусстве, кто имеет свои ценности и может с первого взгляда отличить подлинное от фуфла? Разве не нужны люди, своими глазами видевшие Азию и Сибирь и много понявшие и запомнившие? Разве не нужны им адвокаты и исповедники, и разве это не труд - защищать добро и понимать красоту?
Лисья бухта в качестве стоянки, вероятно, отменялась, и надо было решать, что делать дальше. Я стал искать место для нашей совместной с Ритой и Малышом жизни - где-нибудь поближе, откуда можно было бы стартовать в любую сторону. В кемпинге, что на восточной коктебельской окраине, меня стали было оформлять, да вдруг спросили номер моей машины. Могло же такое прийти им в голову! С отсутствующей машиной перспектива разместиться в кемпинге (то есть поставить свою палатку на огражденной и “законной” территории, чего с таким рвением все время требовали менты) сразу стала сомнительной. Лишь по решению поселкома или лично начальника автостоянки мне могли разрешить здесь быть. Начальник же уехал в Феодосию. “Где же мне жить?” - спрашиваю я их. В горах нельзя, на берегу нельзя - и они еще рисовали карикатуру с безземельным мужиком, стоящим на одной ноге. Мне нет места даже одну ногу поставить. А ведь еще приедут Рита и Малыш.
В столовой, вопреки опасениям, почти не было народа. Но и есть там было нечего. Мне дали вчерашнюю вермишель, сделанную почти целиком из яичного порошка, так что она больше напоминала мелко нарезанную яичницу. К тому же чуть теплую. К ней мне налили ужасного белого чая. Чтобы как-то разнообразить стол и совсем не атрофировать пищевые рецепторы, я купил коржик с сахаром.
На улице я пресекаю тухлые эмоции и открываю Керуака.
Американцы - удивительный народ, на который мы похожи как ночь на день. Их битники почти сразу после войны могли по приколу путешествовать по стране на своей машине, подобно тому, как мы путешествуем на чужих. Лишаясь же по своей безалаберности этой машины, они так же легко переходили на автостоп (они и ввели его в молодежный и идейный обиход), с тем немаловажным отличием, что всегда могли подменить уставшего водителя.
Мой драйвер из Запорожья тоже спросил меня: могу ли я сесть за руль? И я со стыдом признался, что не обучен этому жлобскому навыку. Будь я этим моторизованным битником, проблемы с указанием номера машины у меня бы не было. Проблема в другом: благополучный и сытый Аксенов уже пробовал подражать образцу и доказал лишь то, что не все их парадигмы хорошо на нас ложатся, выливаясь в амбициозную и ложную игру.
Их битники имели лишь два дела: пить кофе и дринчить. Даже трахались они редко по причине нищеты и непрезентабельности. “Чай” у них употреблялся исключительно в значении “трава”. А мы пьем чай и спичим. Хотя “чай” у нас значит “чай”, а “трава” - “трава”, пусть и не та, что растет под ногами.
Украинская пара у дома Волошина:
- А шо нас сюды не сводылы? - спрашивает женщина.
- А шо здись таки булo? - спрашивает муж.
Как эти достойные люди лихо обошлись без культуры!
Стоит наступить погожему дню, как все мужчины напяливают синие спортивные трико с отвислыми от долгого употребления коленями и шастают в них по городу. Это считается у них выходной одеждой. Но в домах отдыха это уже стало стилем. Хотя это просто затрапез, вроде ночной рубашки, в которой не принимают гостей. В Москве так разгуливают у себя дома отцы семейств. Когда-то все они, по совковой шизе, занимались спортом и, натянув трико, качали бицепсы. Теперь они ленивы, толсты, но экономны: не заводить же брюки для дома!
В своих грязных джинах я по сравнению с ними - денди.
Все одно к одному. Баня, оказывается, уже десять лет не работает. Чтобы помыться, надо договариваться с банщицей из “Голубого залива”. Самый сезон, но в Коктебеле куча закрытых на ремонт магазинов, включая самый большой. Неужели невыгодно торговать в популярнейшем курортном месте? Или здесь какая-то особая мудрость и предусмотрительность администрации?
По дороге в голубозаливский душ меня обложили отборнейшим матом, в дyше же отказали на основании правил: моются только обладатели курортных книжек. Лишь книжка дает право быть чистым. Никакие мои резоны не подействовали, как раньше они не подействовали на карадагских смотрителей, как не подействовали на администрацию кемпинга. И только частный человек, ялтинский рабочий или водитель, - может тебя понять.
И газеты еще трендят про этих грязных хиппи, а когда они пожелают прибегнуть к благам гигиены - им дают под зад ногой.
Читал на набережной, и случай свел с местной женской молодежью. Развязные и легкие на знакомство. Обозвали художником - видели, наверное, как я рисовал волошинский дом. Заставили взяться за карандаш и нарисовать портрет одной из них. Через них зафрендовал с бродившими следом грузинскими документалистами из Тбилиси. Ни те, ни другие не знают, кто такой Волошин, но с одним из грузин, Сандро, у нас получился интересный разговор о евреях, кино, музыке и молодежных течениях. Вновь встретился с ними в столовой, и они приветливо пожелали мне приятного аппетита. Очень вежливые люди, хотя и звучит, как издевательство: для местной бурды нужен не приятный аппетит, а сильный голод.
На второй день моего знакомства с коктебельским гриль-баром мне в недвусмысленной форме была разъяснена моя ошибка. Ткнулся туда около десяти вечера, надеясь застать самое веселье и хоть немного перебить карму советского общепита - и узнал, что заведение уже закрыто. Кивнув на дверь, бросил бармену, считавшему прибыль за стойкой, что по их расписанию этого не скажешь. Мне посоветовали носить очки: бар работал до двадцати двух, но второе два сильно стерлось. Я был прав: в этой стране лучше доверять не зрению, а опыту.
...Вечером мое коктебельское настроение становится ярко отрицательным. Я не понимаю, зачем я здесь, почему плачу семь рублей за липовую прописку на три дня, незаконно предоставленную мне служащей кемпинга. Я не люблю, не доверяю этим людям, новым соседям, я чувствую их враждебность и иронию: один, патлатый, в милитаристской рубашке, в своей палатке, как в своей бочке, среди этого кичливого придурковатого оттягивающегося пипла, не ставшего добрее даже здесь. Я - чужой на родине великого прикольщика и поэта Волошина, наивно вообразив, что именно здесь я буду дома.
С соседней турбазы гремит советская эстрада. Несколько раз за вечер доносится песня про каких-то “верных кастратов”. Кемпинг пустеет: люди идут развлекаться. Притягивают ли их “кастраты”, знают ли они другие места - неизвестно. И где развлекаются те, что развлеклись здесь?
Я приехал на родину поэта, а нашел здесь толпу уродов, не имеющих в себе ничего, кроме праздности и жажды тупого кайфа.
Я мог бы перемениться им в угоду, замаскироваться, но это бы ничего не изменило. Я бы все равно знал, что они такое и что изменились не они, а я. Я пытаюсь сделать их шире, заставить думать и быть менее советскими, но они уже двадцать лет отказываются во что-нибудь врубаться, смотрят как в первый раз и выражают полный неконтакт. Если бы не мой ялтинец, не пара грузин и не те веселые герлы с набережной - мое пребывание здесь явило бы полное фиаско. Я, конечно, могу уехать - но куда? Я ужасно устал, и к тому же не могу сидеть один в Лисьей бухте, бродить в поисках дров, варить для одного себя хавку, скучая глядеть на холодное море, стуча зубами прятаться, пережидая дождь, все время на стреме, не появятся ли менты или пограничники...
Среди людей я постоянно оплеванный и один. Я один - наедине с небом и горами, погруженный в тоскливые медитации, не верящий ни в благодатность небес, ни в богоовеянность гор. Мир остался бы чужим и равнодушным, даже если бы я не претерпел здесь ничего, - не находя живого неписьменного выхода своей душе. Мне трудно жить в хаотичном, демоническом мире природы, мне невозможно жить в тирании застывшего мира людей.
Сегодня последняя возможность существования в кемпинге была отравлена приездом дивизии пионеров с палатками под началом своих воспитателей. Они окружили меня со всех сторон и стали ставить палатки колышек в колышек с моей, хотя кругом было полно пустой земли. Сразу начался шум, стук и ругань. Тут-то я и подумал, что обучение действительно должно быть раздельным. В атмосфере школы или лагеря дети разных полов живут друг с другом как антитела.
Теперь у меня под боком ведутся непрекращающиеся базары, дележ палаток, ссоры и оскорбления в адрес противоположного пола, принадлежать к которому считается верхом позора - что не мешает проявлять к нему патологический интерес. Это заставило меня сбежать и до темна бродить и читать. Когда около десяти я вернулся, палатки уже стояли, но из них доносился такой мат и гогот, в добавление к несмолкающему ни на секунду трепу, продолжавшемуся до полуночи, что заснуть было мудрено.
Утром пошел опять в столовую за своей любимой лапшой. Но вместо лапши так же безальтернативно - пюре. Тем лучше. Пюре, две чашки чаю и вилка - так как десертная ложка во всех столовых России не полагается.
Очень серая публика. Шагу не пройдешь, чтобы кто-нибудь не запал на волосы. Они словно только что из леса, и мнения столь же непосредственные. Опять наименование в среднем роде, знакомое по Москве, те же смешки и пристебы. Украинская герла деревенской наружности (кажется, все украинцы таковы) громогласно сообщила всей столовой, что волосы у меня должно быть до задницы, я их только скрываю под курткой. “Язык у тебя до задницы!” - хотел ответить я, но воспитанность не позволила. Тут намечается какая-то закономерность между длиной моих волос и длиной языка базарящих по их поводу.
Лучше бы оценили мою скромность и смиренное нежелание бросаться в глаза, - а не кипятились, подозревая худшее, горя интересом к второстепенным и искусственным тайнам, до которых женщины, оказывается, охочи не меньше мужчин.
Погода на редкость хреновая. Тридцать раз на дню начинает идти дождь и светить солнце. Иногда они делают это вместе. Серо и ветрено. На море смотрю лишь издали, нет никакой охоты подходить к нему близко.
Кликуха “оно” распространилась как лихорадка. Уже чумички с сумками и в платочках встречают меня этим зовом. Как ангела, бестолочи!
Встретил знакомую Инну из Вильнюса и сразу пришел в себя. Есть перед кем блеснуть. Сплин прошел, иду смело, хаер наружу, даже хочется сделать какую-нибудь дерзость - всем этим типам, которые уместны в Планерском, но которым нечего делать в Коктебеле.
Детский лидер - это тот, кто в большей степени урел, кто до печенок вульгарен, вызывающ и агрессивен. Он хохочет, а не смеется, нажимая на грубое так же, как художник нажимает на тонкое. Обычно он выше других и кажется раньше созревшим для трах-тарарах. Со сверстниками у него обращение начальственное: он исключительно приказывает, кидает оскорбления и раздает оплеухи. Любимый прием настоять на своем - предупредить о близкой возможности получить по яйцам. Со старшими он хамоват или развязно подобострастен. Проявляет повышенный интерес к вопросам секса, хотя со сверстницами предельно груб и циничен. Свою взрослость демонстрирует через подчеркнутую скабрезность своих интересов и своего юмора, курение и мат. В активных играх превосходит всех силой и ловкостью.
Это некоторые походя сделанные наблюдения.
В назначенный день на автобусе приезжают Рита с Малышом. Со скромностью, подобающей заслугам, веду их к своему жилью.
С ближайшей турбазы уже не первую ночь гремят “верные кастраты”. Хочу понять сию притчу и обращаюсь к Рите, как к арбитру. Она напрягает слух, но мой вариант отравил ей чистоту восприятия, и теперь она тоже слышит “кастратов”. Так я и остался с этой загадкой. (Позже я узнал, что настоящие слова песни: “верные, как стража”. Тоже неплохо.)
Гуляя в окрестностях Коктебеля, встретили на исходе дня двух субъектов, варящих на костре в эмалированной кружке суп из пакетика.
- Зачем же так мучиться? - сказал я. - У меня котелок есть.
Одного зовут Пес. Он из Питера и тоже ищет место, где найтать. Другой - Коша, который вообще ни в одном городе не прописан. По налаженному способу “прописал” их рядом с собой.
Глядя, какую еду здесь себе позволяют туристы, хочется спросить: за что такая милость? За то, что отказались от услуг художников и, соответственно, от оплаты их труда? Поглощая свои чудовищные обеды, они легко могут обойтись без художников, им уже нет места в их печенках.
Поэтому мне небезразлично соседство моих новых друзей.
Сидя ночью у костра, Коша рассказывает историю про настоящего панка: на одном флэту, где как всегда пили, появился панк, приехавший откуда-то из Сибири. Другой, уже хорошо ужравшийся панк начал его прикалывать: “Ну и морда же у тебя, браток, как жопа!” Выслушав это в очередной раз, сибирский панк спросил: “А ты видел мою жопу?” “Нет”. “Хочешь взглянуть?” “Хочу”. И сибирский панк снял штаны и показал свой бэк. Тот, который приставал, сразу засох. Мы тоже дружно выразили восхищение и солидарность с поведением настоящего панка. Я даже не удержался от сентенции, что надо быть таким же настоящим хиппи.
Кучук-Енишар, могила Волошина. Выложенный черными камешками крест на надгробии, халцедоны, неизвестные мне зеленые камни и полевые цветы.
Продолжая вместе гулять по окрестностям, нашли замечательное место - Тихую бухту, отделенную от Коктебеля мысом Хамелеон. Решили перебраться сюда и поставить палатки. Пока здесь, в свершенной гармонии с названием, никого нет, только несколько диких олив растет на вершине небольшого граничащего с морем холма, под которыми мы поселяемся. Но нет здесь и воды, и дров для костра. Несколько часов в сгущающихся сумерках мы ходили по берегу и горам, собирая палки. Притащили большую обломившуюся ветку, почти целое дерево. Рита попросила топор и попыталась его рубить. Я рядом развожу костер.
- Бесконечно можно смотреть на три вещи: море, огонь и на то, как другие работают, - сообщает Пес, примостившись рядом.
Ритин смех внезапно обрывается, и она разрубает себе кед вместе с пальцем.
- Зачем ты стала это делать?! - запоздало возмутился я, прежде чем полез за йодом.
- Ну, так кому-то надо было это делать, - оправдывается Рита.
Слава Богу, рана была не глубокая и вскользь.
Коша, или Костя, или Параноик, известный в Питере, как Тихоня. Тусовщик с двенадцати лет - вместе со своими четырьмя братьями и сестрой. Детство с не вылезающей из больниц матерью, перманентно исчезающим отцом. Хайк, маковые и конопляные поля, на которых убили одного из братьев. Другой из-за тех же полей сел. Ну а Коша - крезак, первая статья. Таких я видел впервые, их и выпускать-то не должны, вечная койка. Хотя его, положим, и не выпускали. Человек без паспорта и шесть лет без работы. Без прописки и постоянного местожительства. Сам он из Ростова, но в основном живет в Питере у некоего Монаха. После девятого класса бросил школу и занялся скитальчеством и самообразованием. Много читает, немного знает английский. Торчал на всех видах кайфа, включая таблетки катерпина, что в пять раз сильнее черной. У него больная почка, много раз лежал в дурдомах общего и строгого режима. Азия, Владивосток, Мурманск - ареал странствий. Говорит неправильно, но информации воз.
Утром решили сматываться из дождливого, безводного, лишенного дров Крыма. Впятером поехали в Феодосию. Погода как на грех улучшилась. Побывали у Айвазовского и Грина. На одной из улиц нам попался паренек с легким намеком на хаер. Он кинулся к нам, как к родным, а потом повел к своим знакомым, супружеской “волосатой” чете. Его зовут Толиком. Друзей - Димой и Наташей. Они снимали старый одноэтажный дом с небольшим садом.
Дима с Наташей предложили остаться у них на ночь. Дима “металлист”, то есть слушает и играет “металл”. Я принципиально никогда “металл” не слушал. Дима сказал, что я просто не врубаюсь, и вознамерился меня просветить. Пришлось пойти на подвиг - в благодарность за гостеприимство. И что же, весь этот прославленный страшный “металл” оказался просто скучным вариантом “Rainbow”, который я крутил на своем бобинном маге лет десять назад.
Выяснилось, что жена Димы Наташа работает экскурсоводом в музее Волошина. Каждое утро она отправляется туда стопом. И она видела меня, когда я посещал волошинский дом. У нее же нашлась подборка волошинских стихов: фотокарточки с какого-то тамиздата. Всю ночь я просидел у них на кухне, читал и переписывал кое-что в свою тетрадь, чтобы потом в тяжелую минуту твердить наизусть:
Край одиночества,
Земля молчания...
Сбылись пророчества,
Свершились чаянья.
Под синей схимою
Простерла даль
Неотвратимую
Печаль.
Утром был новый тур по Феодосии. Нищая старушечья торговля на асфальте. Даже нам показалось чрезмерным отсутствие всякой санитарии, воды в туалете и прочего. Прошел всю Феодосию в поисках хотя бы одной приличной книги. Сели отдохнуть у особняка некоего табачного фабриканта на набережной, сделанного в турецком стиле. Малыш первым делом запустил камнем в ближайшую “волгу”. Классовая ненависть.
Растерянные от внезапной жары власти еще не успели натянуть ткани на пляжные грибки. Валяемся на камнях, положив под себя одежду. Когда встали, на ней остались белые пятна, как от кислоты. Много мороженого, всюду торгуют пляжными принадлежностями самого бросового вида. Все столовые и кафе в три часа закрылись, и мы безуспешно бродили по городу, ища, где поесть. Пробродили до окончания перерыва, поели и утырили несколько общепитовских ложек для собственного пользования.
Вернувшись к Диме и Наташе, нашли там Шурупа с Алисой, только что приехавших из Москвы. С ними еще один знакомый - Петя. Они собирались полностью повторить мой маршрут: двинуть на встречу с Принцем в Лисью. И тут их перехватил Толик-следопыт.
Во время оживленного разговора во дворе диминого дома пришел Малыш - просить сигаретную или спичечную коробку, чтобы построить “стену дворца”.
- Стены надо разрушать, а не строить, - сказал Шуруп.
Он же рассказал, что в Москве на одном из домов висит табличка, что здесь “бывал Ленин”. Его всегда интересовало: в каком смысле “бывал”: не жил, не выступал, а “бывал”. К любовнице что ли бегал? И добавил:
- Если бы у меня был собственный дом, я бы повесил на нем доску, что здесь никогда не бывал Ленин и никогда не будет.
“Кильдым”, - говорит Шуруп, сообщая, что все ништяк. И, вдохновленные, мы решаем вернуться в Коктебель. На это повлияли и феодосийцы, пообещавшие нам волошинский дом почти что в пользование. Шуруповой компании хочется увидеть Коктебель и дом (никто, кроме меня и Риты, много лет назад, - его не видел).
Утром поехали на автобусе вместе с Наташей и Толиком. Она устроила нам личную экскурсию и, словно почетных гостей, водила по дому и саду, включая непосещаемые туристами комнаты, разрешая свободно и долго ходить и смотреть, трогать руками и высказывать мнения, словно мы и вправду гости в этом доме, а не бедные экскурсанты. Показала в окно “профиль” хозяина, заблаговременно изваянный благодарной природой на прибрежном утесе Кок-Кая.
Погода покуда устойчиво хорошая. Феодосийцы полагают, что так оно будет и дальше. Предлагают остаться у них в Феодосии. Но нас тянет на проверенное место в Тихой бухте. Это ностальгически походит на дикий пицундский туризм.
Придя в бухту, обнаруживаем, что развязали пояс невинности: справа от нашей бывшей стоянки красуется “жигуль” с московскими номерами. Хозяева раскинули огромную польскую палатку, напоминающую дом и имеющую даже прихожую. У них было целое хозяйство, включая магнитофон с нескончаемо звучащим и сильно доставшим Розенбаумом.
С ними мы не свели никакого знакомства.
Мальчик Петя. Он, что называется, “пионер”. Еще едва волосат, инфантилен, восторжен и довольно начитан. Шпарит наизусть из Есенина. С ним можно вести интеллектуальные беседы. Больше он ни на что не годится: ни палатку поставить, ни костер разжечь, ни хавку приготовить - этого от него не дождешься.
Беру у него читать его любимого Есенина.
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжьей палкой и сумой.
Как “отец семейства” и, соответственно, самый уязвимый здесь член - иду первым в город за хавкой.
Как всюду в провинции, магазины работают со страшной произвольностью и, как сегодняшний книжный, закрываются в любое время, потому что единственный продавец уехал в Феодосию для отчета на пол рабочего дня.
На обратном пути встретил своих недавних соседей с красными галстуками.
Хорошо, однако, что мы посетили могилу Волошина раньше, чем туда стали водить пионеров. Из-за них всякое хорошее место начинает напоминать мавзолей.
У активно христианизирующегося Шурупа взял Иоанна Кронштадтского (из всех книг остался лишь Керуак на английском). Воспевая красоту и мудрость творения на первых десяти страницах своей христианской философии, Иоанн Кронштадтский впал в противоречие с собой на 14-ой, процитировав иаковское: любовь к миру есть вражда на Бога. Получается, что Бог поманил пряником и увлек в ловушку. Или же, что сотворил нечто недостойное любви, создав разлад в творении, обрекши одно великое начало бытия пренебрегать и презирать другое.
Недостоверно и скучно.
Анжела появилась в нашей компании случайно. Она просто шла по дороге вдоль берега, где ее заметили Пес с Кошей и пригласили к нашему костру. Потом они целый час решали, кто будет спать с ней в палатке. Пес, как хозяин палатки, победил. К тому же более философичному Коше воздержание на свежем воздухе, очевидно, более к лицу.
Так она у нас и осталась. Она училась в Москве на философском факультете, родила дочь - и уехала скитаться в Крым.
Потом рядом с нами раскинул свою палатку экс-альпинист Женя из Баку, который теперь каждую ночь проводил у нашего костра. Следом появилось три совсем левых человека из Львова, у которых даже не было палатки. Они сбегали в город и вернулись спортивной трусцой, неся три пляжных лежака. Потом они сделали тент из целлофана на ветвях дерева и поселились под ним.
Так укомплектовалась наша колония.
Главный хипповый принцип: не делать ничего, что вломак. Потому что, если начать делать то, что вломак, то рано или поздно превратишь жизнь в лажу. И будешь, может быть, сидеть на мягком пуфике и даже с чувством выполненного долга - и ощущать себя несчастным.
Поэтому снова сталкиваюсь с тем, что рано или поздно начинает раздражать в любом волосатом коллективе. Прекрасные собеседники, умные и смелые люди - они слишком легкомысленно относятся к тому, откуда берется хавка, даже когда живут с другими волосатыми, а, скажем, не дома с родителями. Для той малой активности в пополнении продовольствия - они слишком много едят, притом не считаясь с остальными. Они засиживаются у костра, встречают рассвет и, естественно, хавают - так, что на утро от еды остается лишь грязная кастрюля. Но они уже спят, и кто-то другой должен идти в город, пополнять запас хавки и воды. Москвичи отличаются какой-то особой изнеженностью, не позволяющей им ни напрячься для общей пользы, ни в чем-то отказать своим больным желудкам. Поэтому рано или поздно из-за хавки начинаются ссоры, еда просто расхищается. Ее неумеренно пожирают, когда она есть, и лениво ожидают ее появления, когда ее нет. Московские волосатые всегда нуждаются в няньках, особенно пионеры. Пользы от них практически никакой, зато приколов и претензий куча. Я не успеваю увидеть те вещи, которые приношу, хотя только и делаю, что бегаю в Коктебель за шесть километров. Они из экономии не покупают дорогие сигареты, а потом постоянно тащат и стреляют с фильтром. Очень вежливые и предупредительные поначалу, очень скоро они начинают вести себя излишне панибратски и оскорбляют ближних с непосредственностью детей. Молодые волосатые вообще преувеличивают отсутствие условностей в нашем кругу и в своем стремлении быть крутыми режут слух, как фальшивые скрипки.
“...blind spoiled destestable children, pouting because... they can’t get... all... candy... they want”. Jack Kerouac, “Subterraneans”. (“Слепые избалованные малолетние дети, дующиеся потому... что не могут получить... все... конфеты, которые они жаждут”. Джек Керуак, “Люди подземелья”.)
Прекрасный день для шпионов и перебежчиков: туман над морем, густой как молоко, и чуть ли не на вытянутую руку все начинает расплываться...
Мы решали вопрос: если мы все равно солим воду для риса, нельзя ли взять уже соленую из моря - тогда проблема воды была бы серьезно решена. Эксперимент над ограниченным количеством хавки был неутешителен: есть полученный продукт не смогли даже самые голодные.
- Take the борщ, - говорит Толик Феодосийский, приехавший нас навестить. Он юн, прост и весел, и кажется человеком с абсолютно незамутненной кармой. Он дурачится как ребенок и легко изготовляет тусовке обед. Тут для нас всегда существует проблема: одни люди не умеют готовить, другие считают это для себя западло, третьи считают западло готовить постоянно и на всех (что, при нашей численности, утомительно).
Зато эти милые чайные разговоры, когда заранее признается, что твой собеседник замечательный человек, и все начинают обсуждать недостатки и причины дурных поступков других.
Сейчас начали перемалывать косточки Пете и обсуждать неумное поведение “взрослых”. Алиса с Шурупом видели здесь отклонение от света детства. Мы с Ритой считали детство временем беспросветного эгоизма, от которого человек освобождается с возрастом и посредством воспитания.
Шуруп:
- Мне кажется, что большинство людей вообще не думает. В этом и причина.
Рита:
- Но ты согласен, что часто очень простые люди способны на очень хорошие поступки?
Шуруп засмеялся и согласился.
- Наоборот, - говорю я. - У простого человека могут быть более нормальные и гуманные реакции, чем у человека, имеющего свободное время, когда он все читает и оценивает идеи, и они перестают казаться ему верхом непогрешимости. От нормальных и естественных добродетелей он может перейти к увлечению гордым и эффектным грехом и даже видеть в этом какую-то честность и мужество, на которые не способен плебс. Культура может испортить человека, если у него слабый характер, например, чтение Ницше и Кастанеды...
Анжела рассказывает о своем факультете философии. Перед написанием курсовой о сельском хозяйстве Дании преподаватели предупредили ее, что в тексте необходимо минимум дважды упомянуть о социализме по материалам съезда и классикам, - и возмутились потом, что сельское хозяйство Дании в ее исполнении получилось похожим на наши колхозы. Почти довели ее до слез, разбирая на лекции Маркузе. У них он вышел еще глупее, чем у какого-то английского марксиста, писавшего, что Маркузе такой тупой, что может считать молодежь единственным революционным классом, а рабочих уже интегрированными в общество и неспособными на революцию. Марксист считал его лишь ревизионистом Маркса, ошибочно пытающимся приспособить Маркса для современного момента (чистая правда - не надо и пытаться)... И так вот унизив Маркузе, лектор вдруг заявил, что он теперь расскажет правду, и стал говорить вещи совершенно противоположные, например, как он видел Маркузе в Штатах в 69-ом году. Тогда советская делегация пришла на его лекцию в черных костюмах и галстуках, и вдруг появился Маркузе, в джинсах, взобрался на стол, что-то рассказал и всех поразил.
Я бросил учебу четыре года назад, но, вижу, здесь мало что изменилось. Даже на кафедре физкультуры семинар по поводу съезда.
Анжела хотела было предложить тему для курсовой о контркультуре на Западе, но не стала и пробовать, потому что работа должна была бы содержать в себе обязательную критику с марксистских позиций.
Когда она готовилась к экзаменам и читала “классиков”, то совершенно шизанулась и могла говорить только их языком и в их манере. Дело кончилось психиатром, который лечил ее гипнозом и в конце концов дал академ.
В унисон раздаются ритины признания, что универ отбил у нее охоту читать. В полгода они должны были пройти всю античную, потом всю средневековую литературу, в голове путались сюжеты, имена. А тут еще их штампы: “прогрессивный”, “реакционный”, “сочувствующий революции”, если не нашей, значит французской, или освободительной борьбе, или еще какой-нибудь хреноте.
Вечером за костром вспоминали забавные памятники совкового маразма. Алиса припомнила лозунг, увиденный, кажется, в Татарии: “Ленин тыг, Ленин дыг, Ленин тыг дыг дыг”.
Рита вспомнила два родных столичных лозунга: “Советские люди вечные строители коммунизма” и “Солдат - охраняй в бою родину, Мать твою”.
Шуруп рассказал, что видел при въезде в Москву по смоленскому шоссе: “Москва - столица мира”. И про то, что в районе Донбасса на субботнике висел плакат: “Все коммунисты - в шахту”. Пес, проезжая по Украине, узрел: “Ленин нам завещал: учиться, учиться и учиться. Л.И.Брежнев”. Я вспомнил рассказ Маркела, как на одной из веток московской электрички над покосившимся и полуразвалившимся сараем висел транспарант: “Простые советские люди повсюду творят чудеса”.
Базар не утихал. Анжела прочла поэму “Перента и бейбики”, слэнговый вариант вечной темы отцов и детей.
Мы с Псом совместно вспомнили любимые кошины стихи про трех герлиц:
Три герлицы под окном
Спичат поздно вечерком…
Пес продолжает:
Весна, хайратый торжествуя,
К Сайгону обновляет путь... и т.д.
Я пытаюсь сочинять и другие стихи:
Краски тайного замеса,
Круг священного порядка.
В покровительстве у Неба
Три брезентовых палатки.
В принципе, я согласен с мнением об ущербности, непоэтичности и т.д. “волосатых” стихов. Поэзия в волосатом кругу имеет утилитарное значение, как частушка у народа. Такое же значение имеет и искусство. Никто не будет заявлять: я, блин, поэт, или: я, блин, художник, хотя, может быть, ему и дадут такую кликуху за минимальные заслуги, - ничуть не нарушая равенство и взаимную ценность. Говоря: я, блин, поэт, ты как бы расписываешься, что для тебя есть идеи более важные, чем хипповые. Что ты на самом деле сраный карьерист, думающий заявить о себе через творчество и, что хуже всего, не в волосатом кругу. При этом почти каждый хиппарь - поэт, музыкант, художник, часто в одном лице.
Если волосатые выражают себя в каком-либо жанре, то, принимая жанр, они не утруждают себя принимать и законы этого жанра. В их руках любой жанр становится чем-то другим, и они считают это нормальным.
Даже если “жанр” - волосатость. Здесь так же нет законов и догм. Поэтому наивно говорить волосатому, что ты, мол, волосатый, значит, должен ночевать в парадняке, а не вписываться на флэт. Это все равно что сказать птице: ты должна летать и не садиться на землю. Система - это возможность жить, не ангажируя себя ни на какой подвиг, ни на какой труд, ни на выполнение любой задачи, связанной с ограничениями и лишним бременем. У Системы нет теории и нет идеала: она принципиально свободна от идеалов и теорий. Система - это терапия необязательностью и жизнедеятельность без цели и принуждения следовать каким-нибудь патентованным правилам.
Так мы проводим ночи. И Керуак в Лос-Анжелесе мечтает “...to show how abstract the life in the Talking Class to which we all belong...” (...показать абстрактность жизни Говорящего Класса, к которому мы все принадлежим...)
Слишком много совдепа вредно для здоровья, поэтому во мне они должны ценить оздоравливающее влияние Америки (пусть не реальной Америки, а “Америки” нашего внутреннего мифа, как Белозеро или Египет для раскольников). Я боюсь быть похожим на них, я боюсь, что они могут принять меня за своего - наивного или циничного обывателя, лишенного каких-либо дорогих и обременительных идеалов, чудовищно защищенного самим своим безразличием и потому способного голосовать за кого угодно, терпеть любую подлость и считать справедливым любой режим, при котором ему довелось жить.
На вершинах, в диком необжитом краю, где хранители гор задирают в небо свои циклопические профили, где двухколейные дороги на глазах исчезают и превращаются в две овечьих тропы, скачущие вверх по склону, когда красное солнце садится среди голубых волн вздыбленных горных цепей, - вдруг находишь в себе присутствие острого религиозного чувства, будто Творец еще не покинул эти пограничные миры, и Его дыхание еще лижет изгибы Его гигантских изваяний.
Поражают не скалы, не обрывы, не пики, но пластика гор, цвет, шершавая, ноздреватая кожа, мерцающая бороздами стремящихся вниз потоков и горизонтальной сеткой овечьих троп, меж которых растет чахлая шерстка горных трав.
Я понимаю, почему Волошин избрал местом своего “успокоения” вершину Енишара. Если идти на восток по горной лощине, Енишар вдруг превращается в удивительно правильную пирамиду с почти симметричными сторонами, вздымающуюся высоко в небо.
Было уже темно, когда с дороги нас ослепили фары и оглушил милицейский мегафон:
- Всем оставаться на месте! Проверка документов!
Меня словно током шибануло - от сильного сходства с прошлогодним винтиловом в Пицунде. Неужели опять этот пограничный бред, выселение, арест!..
И все же, если для нас эта перспектива была со знаком вопроса, то Коше спецприемник светил очень отчетливо: для начала у него не было этих самых документов. Не долго думая, расторопная Анжела предложила ему сканать за ее мужа, а про паспорт заявить, что находится на прописке. Коша стал поспешно учить свою новую фамилию и имя, а так же адрес и имя своего годовалого ребенка, оставленного в Москве.
Менты начали с львовских туристов, потом им попался Женя, потом наступил наш черед. Последним очередь дошла до Коши. Менты выслушали уверенную телегу Анжелы и попросили Кошу назвать свое имя и фамилию. Коша спокойно это сделал.
- А отчество? - спросил мент.
Наступила тревожная пауза. Мы напряглись, изо всех сил пытаясь подсказать ему как на уроке, но менты следили за нами зоркими недобрыми глазами.
- Ну, Эдуардович, - наконец говорит Коша уже торжествующему менту.
- Что же ты молчал? - спросили мы его потом. Он признался, что отчество из головы как ветром сдуло.
Менты заявили нам, что стоять здесь нельзя и мы должны сворачивать свои палатки.
- Почему? - задаю я риторический вопрос.
- Потому что здесь погранзона, - лениво отвечает мент.
- И что, вот сейчас ночью мы будем собираться, а потом пойдем неизвестно куда ночевать - с детьми?
- Здесь есть кемпинг.
- Туда людей без машины не принимают, - говорю я совершенную правду.
- Есть турбаза.
- Там нет мест, - отвечает за меня Шуруп. Это и проверять не надо.
- Ну так снимите квартиру.
- У нас нет денег на это.
- Так чего вы сюда приехали?
- Как чего - пожить, отдохнуть, посмотреть на волошинские места, порисовать.
- Художники?
- Да.
- Ладно, сегодня ночуйте здесь, а завтра уезжайте. А то будут неприятности.
Завтра, естественно, мы никуда не уехали. И менты больше не появились, хоть мы их и ждали. Чувствовалась в этих ментах какая-то слабина: что не очень-то и хотят они нас арестовывать и выселять. Мы обсудили ситуацию и решили, что скорее всего они предпочли бы урегулировать вопрос деньгами. Но и денег у нас не было. Если бы они приехали опять, мы бы уже не сплоховали и скинулись бы на какой-нибудь презент, чтобы от нас отстали.
- Дадим им пару бутылок водки - будет нормально, - сказал Женя.
Большинство людей не хамят и не грубят на каждом шагу потому, что опасаются получить по мозгам. Вот и меня сегодня прямо перед домом Волошина чуть не замочила урла, толкающаяся на лодочной станции. Как у всякой урлы, их лексика была предельно лаконичной, компенсируясь богатым запасом матерной фени. Помимо известных выражений - для моего обозначения нападавшие использовали почему-то слово “бычок” - и все старались утащить к себе на станцию, куда меня совсем не тянуло. Скоро перешли к урловским приемчикам: “Ты чего, мне угрожаешь?” - пузырился молодой парень в майке и махал перед лицом ножницами. Они обещали сразу и постричь и закончить дело смертоубийством, о чем и свидетельствовали опасные полеты ножниц, движения корпусом и кулаками. Выродок с ножницами считал, что я позорю их город. Я ответил, что это они его позорят.
- Почему это мы позорим? - полюбопытствовал парень.
- Нарушаете закон гостеприимства.
Был бы это не такой урод, я бы добавил: “считавшийся у греков священным”.
Он посоветовал мне побыстрее исчезнуть из города, чтобы не получить пи...ы. Проходящая публика, впрочем, не мешала сделать это прямо теперь, так как меня по-прежнему крепко держали и их было шестеро. Урловские примочки лились как из рога изобилия, в основном крутясь вокруг волос и того, что неугодные обществу элементы должны быть уничтожены.
Я спросил, что это у них за общество такое? Низенький чернявый мэн наклонился, покривлялся и произнес какое-то странное название, состоящее из слов на “б...” и на “х...”. Парня с ножницами, который больше всех хамил и выпендривался, я спросил, сколько ему лет, и с позиции старшего начал учить жизни. Самый старший из них, с большим крестом под шеей, спросил у меня по-ментовски имя и фамилию, на что я поинтересовался его собственной. Тогда он спросил грубо - не поп ли я?
Следующий раунд был посвящен Москве. Узнав, откуда я, все тот же с крестом спросил - почему в таком виде?
- А там так принято, - съязвил я.
- Умный что ли?
- Умный.
- Не видно.
- По вам тоже не скажешь.
- Это почему?
- Потому. Не зная, кто я, вы осмеливаетесь меня оскорблять.
- Кто же ты? - спросил с крестом. - Объясни.
- Пусть он меня сперва отпустит, - сказал я, имея в виду крепкого парня с угреватым лицом и в шапке, который держал меня за петлю для ремня. - Я не привык так разговаривать.
- Зато я привык, - ответил парень.
- Ну, вот когда ты будешь говорить, тогда и держись.
Разговор зашел в тупик.
- Ну, что, тебя тащить что ли, если ты своими ногами не хочешь? - спросил урел в шапке.
- Попробуй.
Он рванул. Я удержался, а на штанах что-то треснуло. Я почувствовал свободу и быстро зашагал от них прочь.
- Стой! - закричали они
- Хватит, поговорили! - отрезал я.
Преследовать меня они не стали.
А в магазине очередь за пивом, поэтому нельзя ничего купить. Хорошо, что какой-то полуголый человек, которому не продавали пиво, поставил меня вместо себя - почти перед прилавком.
А потом я зашел в книжный и не нашел ни одной художественной книги на русском языке.
Происшествия бывают не со мной одним.
Наутро Рита пошла в город позвонить и зацепить хавки. Я видел, как она стопанула проезжающий по дороге газик и уехала.
- Знаете, какой был со мной прикол! - объявила она, вернувшись. - Представляете, сажусь я в газик. Там мужик в майке. Я как ни в чем ни бывало начинаю с ним болтать по своей привычке, а потом гляжу случайно вниз - а у него ниже майки ничего нет. Я страшно перестремалась. Думала, сейчас увезет куда-нибудь, придется на ходу прыгать. Но виду не подаю, болтаю, как ни в чем ни бывало. Он, по-моему, даже хотел обратить мое внимание на свой туалет, а я делаю вид, что ничего не вижу. Так и довез меня до города, наверное, обломался.
- Повезло.
- Я тоже думаю. Могло быть хуже.
- Главное избрать верную тактику. Ты правильно сделала, что стала его убалтывать, - говорит Анжела.
- Это чисто спонтанно. Инстинкт.
Погода испортилась. Стал дуть изрядный “мистраль” с украинских степей.
Наша колония распадается. Хиппари сказали, что снимаются: сперва в Феодосию, потом в Керчь, оттуда на пароме в Тамань и дальше стопом в Пицунду, где останутся, может быть, до конца лета. Там теплее. Мы позавидовали и расстались.
Женя у поредевшего костра рассказывает про жизнь в Баку.
Я сказал, что в прошлом году видел ее со стороны, и она мне не понравилась. Он заверил, что все так и есть. Одно время в Баку не было даже спичек. Весь город искал эти спички, именовавшиеся теперь по мотивам “Кин-дза-дза” - “КЦ”.
Он кончил строительный, работает по близкой мне архитектурной специальности. Рассказывает, что родственник Алиева - главный архитектор Баку. Ни один проект не утверждается без внесения его имени в число авторов и без учета его замечаний.
Потом рассказывает про альпинизм, как чуть не умер в горах, пережравши с голодухи черной икры. И о том, что туристские карты намеренно испорчены. С этим он несколько раз сталкивался в своих путешествиях по Кавказу.
Потом - об асе Хергиани, ходившим в паре с Анищенко и разбившемся в 69-ом в Италии. Лучший советский альпинист - в начале 60-х, когда совдеп впервые стал платить валюту за участие наших альпинистов в международных соревнованиях по скалолазанию - поехал в Англию и обставил всех западных альпинистов. С тех пор и чуть ли не по сей день считается лучшим альпинистом в мире. Приехал в Англию с брезентовой палаткой, брезентовым рюкзаком, в галошах и поношенных штанах. Королева Англии вручила ему орден “Тигр скал”, который имеют всего человек десять в мире. Покоритель вершин 6-супер, самых сложных для восхождения. Одна такая - под Эльбрусом: четырехсотметровая нависающая стена ледника, покоренная лишь им. Сам Эльбрус не идет с ней по сложности ни в какое сравнение.
Он из сванов, особой свободолюбивой народности, живущей в труднодоступных горах и подчинившейся совдепу, как говорят, только в 37-ом году.
Чтобы улучшить свою экипировку, наши альпинисты выменивают ее у западников на титан. Те охотно меняются: у них титан страшно дорог и идет в основном на обувь и на крепления.
Я вспомнил про алтайское селение, где падают третьи ступени с Байконура и где этого титана, как грязи.
Львовцы тоже рассказывают что-то свое. Они оказались очень славными ребятами, с неплохим чувством юмора. Не попав ни в диссиденты, ни в хиппи - эта генерация людей уже не была овечье советской.
Почти пятнадцатичасовой дождь на всю ночь и весь день. Тяжелый опыт испытания подводной лодкой, в которую превращается одноместная палатка на трех человек, протекающая и задуваемая со всех сторон, несмотря на целлофан, пришпиленный сверху. Протекание началось по краям - через землю, постепенно расширяясь к центру палатки. Вещи набрасывались друг на друга в последовательности их промокания. Люди набрасывались друг на друга в последовательности уличения их в пренебрежении законами терпящих бедствие.
До трех часов дня дождь продержал нас почти безвылазно в палатке, здорово подсадив нервы и отравив отношения. Чтобы восстановить их и подбодрить Малыша, мы пели Моррисона, Hair, “Христа”. Рита даже пропела Gaudeamus igitur и шутливую песенку на французском.
В одну из коротких вылазок под дождь увидел полуголого босого человека, который стал просить у меня доску, чтобы согреться на приготовленном из нее костре. Вид его был так жалок, что я дал ее ему, хотя, по справедливости, распоряжаться ею мог только Женя, притащивший ее вчера с вершины Хамелеона, где она недавно составляла часть казенного забора.
Сама вероятность разжечь костер под дождем вызывала во мне сильное сомнение, пополам с состраданием к нему и жалостью к себе. В этом я нашел полное понимание с палаточным соседом снизу, мокрым, в промокшей пограничной панаме, который стал выпрашивать у меня бензин для разведения того же костра. Мне эта затея в тот момент показалась просто бредовой. Да и бензина у меня не было.
И когда после нашего пятнадцатичасового бедственного дрейфа мы поднялись наконец с последней сухой полоски нашей палатки и вылезли наружу - нас встретил ураганный ветер, на который мы повесили сушить наши пожитки.
Море, сильно отошедшее от берега, было офигительного цвета: по-речному желтое вдоль берега от сдутого в него песка, оно становилось после зеленым, потом опять желтым, а дальше угрожающе фиолетовым, с белыми, убегающими от берега, барашками пены. Спальники как привидения летали на ветках.
Ни одна советская сволочь из весьма потерявшей авантажность польской палатки не поинтересовалась, каково людям после дня дождей, насквозь промокшим, с детьми и т.д., безвыходно застрявшим в этой бухте?
Появились львовцы и Женя, мокрые, истерзанные, но полные куражу развести костер из мокрых дров.
Мы решили сматываться отсюда. Дождь висел в воздухе. Я отправил Риту с Малышом вперед налегке - поесть и забить место в автобусе в Феодосию. Собрался довольно быстро. Обменявшись адресами и пожеланиями с Женей и львовцами, я уже под дождем отправился в путь.
Немедленно по выходе из лагеря я угодил по колено в яму, полную воды и грязи. Дальше стало хуже. Дорога представляла из себя страшное зрелище раскисшей земли. Она не держала, предательски скользя из-под подошв, ноги уходили в нее по щиколотку, и я в миг изгваздался до колен. Я попробовал идти по траве, но она была щедро напоена водой, земля же под ней была столь же эфемерна. Извозившись по уши, навесив на кеды огромные плюхи грязи, я в конце концов разулся, очистил на скорую руку кеды, исхитрившись сделать это не снимая рюкзак, который некуда было положить, - и зашагал босиком по перевалам - до самого Коктебеля.
В Коктебеле я сходу залез по колено в море, долго мылся и стирался, бросив рюкзак на чистые прибрежные камешки.
Никого вокруг не было, накрапывал дождь.
Я выбросил уже совершенно негодные носки, надел мокрые кеды и отправился дальше - к столовой, где меня должны были встретить Рита с Малышом и где их не было, и о трудностях перехода которых я мог только догадываться. Здесь я съел подгоревшую и весьма несвеже выглядевшую запеканку, гарнир из риса и чай с кренделем. В середине трапезы появилась Рита. Она удивилась моей задержке. Они, оказывается, уже давно поели и сидят на автобусной остановке. Автобус будет через двадцать минут. Мне пришлось поторопиться.
По дороге на автобус мы встретили львовского Олега, который совершил бросок за нами - напрямик и всего за сорок минут, так что даже успел в город до закрытия магазинов...
Каково же было наше удивление, когда у Димы и Наташи встретили Володю Честного с бывшей принцевой женой - и еще одну волосатую чету из Москвы: одноногого человека, бывшего хиппаря, верно еще из Первой Системы, с какой-то шлюховатой на вид женой-парикмахершей.
Снова пошли разговоры и бесконечные чаи. Мы сохли, насыщались, наслаждаясь комфортом, и рассказывали о житье в Коктебеле. Честный - опять о военной кафедре и армейских порядках, когда проходил послеинститутские месячные сборы и испытание матерной жизнью. Оправдание ужасного в том, что, преодоленное, в руках мастера оно становится страшно смешным. В этом есть какая-то справедливость: никто не живет так ужасно и весело, как мы. Читали только что опубликованный “Котлован” - и смеялись опять.
В свое время экс-хиппи сильно квасил, что было принято в Первой Системе, и по этому случаю потерял под электричкой ногу. Свой протез он называет “мой стриптиз”.
- Ну, снимаю мой стриптиз, - говорит он, готовясь ко сну.
Его страшноватая жена-парикмахерша оказалась довольно добродушной и общительной бабой. Рассказала про дочь, которую недавно водили в мавзолей. Вернувшись, та сказала, что в мавзолее лежит Ленин, который ждет, когда ему вставят мозги обезьяны, и тогда он оживет и будет жить вечно. Боже избави!
Пришел Толик, починивший Рите сломавшееся кольцо, и одна феодосийская пара.
Все очень трезво, скромно и в культовом смысле - не круто. Кое-как разместились на ночь в прихожей впятером.
Три раза я совсем уезжал из Коктебеля, и три раза возвращался. Вчера я уехал в последний раз. Я выехал из Феодосии и уже через двадцать минут был на развилке на Коктебель и Старый Крым у “Насыперов” (поселок Насыпное). И там вдруг сдался. Очень скучно в три часа дня стоять на жаре в самом начале неизвестного и, в общем, не самого прикольного пути, тогда как поезд, на котором поедут Рита с Малышом, предоставляет мне исключительную возможность задарма проехать полторы тысячи километров и завтра быть в Москве. Я понял, что глупо манкировать таким случаем, и мой стопный дух резко угас. Я несколько раз вяло поднял руку, готовый проклясть водителя, пожелавшего остановиться. Затем я перешел дорогу и стал стопить обратно в Феодосию. Это мне быстро удалось. Драйвер-частник оказался словоохотлив. Сперва он поинтересовался, откуда я. Потом прошелся матерком по поводу попавшегося пьяного. Я подал реплику: “Воскресенье”. Он возразил: “Выборы”.
- Ах, да, - вспомнил я. - Хороший повод.
- Раньше мы так и выбирали. Кто же на выборы трезвым пойдет? Везде вино продавали, даже на избирательном участке в буфете. Законное дело. А теперь их х... кто выбирать станет. Теперь они сами с урнами приходят.
- На дом, - съязвил я.
- На дом, - поддакнул он. - А-а, один х..., все равно 99 и 9 десятых будет.
- Да, - засмеялся я. - Именно. Без разницы.
Он тоже засмеялся.
- Это во Франции или в Америке выборы что-то значат.
- Конечно, - сказал я. - Такого даже в ЮАР нет.
- Да ну?
- У нас правом выбора реально обладают шесть процентов населения, - блещу я диссиденской эрудицией. - Это теперь, после Горбачева. А раньше хуже было.
Он опять смеется, словно я здорово его позабавил.
Пока рисовал на набережной особняк 14-го года - подошел наголо стриженный фотограф, по-видимому, из столицы. Попросил поснимать меня. Разрешил. Долго снимал, назвал пялящуюся на меня толпу дикарями - явно мне в угоду. Спросил, откуда я. Услышав ответ, предположил не из Суриковки ли?
Любопытно, что и драйвер грузовика под Насыпным тоже про меня все сразу понял: “Просто так ездишь? Пишешь, рисуешь, да?” Приятно, что тебя не считают за бандита или бродягу, и престиж волосатых довольно высок.
В Крыму, судя по Феодосии и Коктебелю, очень любят писать на стенах и ходить в тиры. Телефонные автоматы и автобусы изрисованы и изкарябаны, словно выдающиеся исторические достопримечательности. И там, где в любом нормальном городе было бы кафе - устроены тиры. В Феодосии есть даже тир-вагон: автомашина с длинным прицепом, представляющим собой стрелковую шахту...
По дороге на вокзал мы сняли и увели с собой всю их тусовку “Под часами” во главе с Кислым - интересным, очень настоящим панком, который прямо на улице стал развлекать нас пантомимой, великолепно изображая не то олигофрена, не то разведчика, вызвав наши аплодисменты. Его двухцветный красно-зеленый галстук искрился коллекцией Лукичей, красных знамен, пионерских звездочек и т.д. Голова, как полагается, обесцвечена перекисью. Но волосатых в тусовке не было. Быть панком в Феодосии считается менее зазорным, чем быть хиппи. Кажется, многие просто не понимали, что делают со своей головой. Но, идя по главной улице, мы представляли грозное зрелище, не оставившее никого равнодушным.
На вокзале с Риты потребовали детский билет, и она понеслась по платформе в кассу. У меня билета вовсе не было, и я не сделал шагу, чтобы его приобрести.
Панки были с нами до самого отправления поезда. Войдя все вместе в вагон, мы так поразили проводницу, что, когда панки вышли без меня, этого никто не заметил.
Я ехал там, где и полагается ехать нищей русской интеллигенции - на третьей полке, как месяц назад я ехал из Питера. Прижался к стене и беззаботно сладко заснул, радуясь, как я это все славно придумал.
Утром меня схватили за ногу и как Гефеста спустили вниз. Ради несчастной премии за поимку безбилетника они были готовы буквально убить человека. Жирный бешеный начальник поезда взвинтил себя совершенно до озверелого состояния. Меня ссадили на Лозовой, в 110 километрах от Харькова и в стороне от трассы. Штраф и менты остались угрозой, но в поезде продолжали ехать Рита и Малыш, которых они запросто могли использовать как козлов отпущения.
Благополучно не попавшись ментам, я сделал круг по станции и попытался выехать электричкой до Харькова. Она отправлялась буквально вот-вот, но стоила дорого и шла, самое печальное, три часа.
Час я выбирался пехом из города и ничего не застопил. Вернулся: электричка уже ушла. Поездов нет и стоят двенадцать рублей в плацкарте. Хуже, что попался милиции. Одному не понравилось что-то в документах, другой стал выспрашивать, откуда и как попал в Лозовую. Тут я сдуру сказал, что прибыл 104-ым из Феодосии. Они могли слышать о высаженном безбилетнике. Менты мурыжили меня долго, все хотели увести с собой, проверять документы. Я забалтывал их и упирался. Внезапно они меня отпустили, чего я уже никак не ожидал, лишь пожелав, чтобы я немедленно исчез из Лозовой. Я был не против.
В поисках междугороднего телефона прошел мимо комнаты начальника вокзала. В спину окрик:
- Вы куда, молодой человек, чего вы там рыщете?
Вообразив, что он снова вызовет ментов, естественно, тех же самых, я кинулся вон с вокзала. Теперь мне безальтернативно оставалась лишь трасса.
Верхнелюбажская больница Фатежского района - последний аккорд в кошачьем концерте моих стопных приключений.
Я был неожиданно быстро подобран драйвером Юрой с азиатским акцентом под мемориалом Курской битвы, где я сидел и грелся у вечного огонька, размышляя, не остаться ли мне здесь на ночь. Небо заволокло тучами. Я озяб и устал, а вокруг уже смеркалось. И все же с помощью Юры я совершил хороший ночной трип и сильно улучшил свой стопный дневник.
Но у него же в машине я обнаружил у себя все признаки инфлюэнцы. Под дождем на дороге или в палатке я провел в это лето не один час. Дождь, который начался под Серпуховом, продолжился в Джанкое, преследовал меня от Судака до Коктебеля. В Тихой бухте он лил два последних дня с ураганной силой. И когда здесь под Курском на возвратном автостопе он нагнал меня снова - мое здоровье наконец треснуло.
Сперва это выразилось в кошмарной усталости и охватившей меня меланхолии, усугублявшейся мелким противным дождем, который беспрерывно лил за окном. Я уже представлял, как выхожу на дорогу, ищу в мокрой темноте место для ночлега, ставлю палатку... Потом пришел озноб, заболела голова, заныл живот. И наконец доползло до легких, заворочалось кирпичом. Начались зрительные и слуховые галлюцинации, напомнившие мне психоделический трип. Я боялся, что начну бредить и перепугаю водителя. Одну за одной - съел целую упаковку сульфадемитоксина, который всегда таскаю с собой.
Ехали медленно из-за тумана и дождя. Я последовательно надевал все теплое, что у меня было, но это не помогало.
Около одиннадцати мы наконец встали на ночлег, но вписать меня Юра не мог - в его КАМАЗе не было спального места. Я пытался объяснить свое состояние и убеждал в своей неприхотливости, то есть готовности спать внизу, между педалями. Но это не помогло, разбившись о его твердую уверенность в невозможности там спать.
Я поблагодарил и вышел из машины. Невдалеке стоял МАЗ или “татра”, в темноте не разобрать. Водитель еще не спал. Я сделал знак, он открыл дверь, и я повторил свою просьбу. Водитель попался добродушный, но у него тоже не было спального места.
- Что же тебе сидеть всю ночь?
Я был согласен и на сидеть, и все же решил по его совету поискать другую машину. Но другой машины не было, а я чувствовал себя все хуже.
Недалеко от стоянки тускло горели окна какого-то склада. Я отправился туда. Это оказалось что-то вроде небольшого цеха по переработке сена. Дюжина людей работала, несмотря на ночь, перекидывали сено из кучи в кучу - какие-то темные немолодые женщины в темных грязных халатах. Пробравшись между повозками с этим сеном я дерзко влез в самый эпицентр работы и повторил ту же просьбу. Начались расспросы: кто, что, почему? Но и после этого оказалось, что ночевать здесь нельзя, может быть пожар. Я сказал, что не курю и даже не имею спичек. Просто полежу где-нибудь в копне, если вы не против. Они направили меня к местному пожарнику, которого я нашел в полном одиночестве в огромном машинном зале. Здесь было тепло, и это место мне чертовски подходило. Но пожарник даже не захотел меня слушать. Нет, это завод, и быть здесь запрещено. Нажим на человечность и ссылки на болезнь не возымели действия.
- Иди в больницу, - сказал он. - Тут недалеко.
- Да кто меня сейчас примет, ночью! - возразил я.
- Примут. У них там ночное отделение есть. Постучишься, примут.
- Ну, куда я сейчас попрусь в больницу? Я бы здесь прилег, у меня с собой все есть, а рано утром я уйду.
- Нет, нельзя. Не положено.
- Да чего вы боитесь? Я вам паспорт дам.
- На кой мне твой паспорт!
Он взялся за телефон. Я гадал: звонит ли он в больницу или в менты? Но из звонка почему-то ничего не вышло.
- Иди в больницу.
- Да как я ее найду?
- Пошли, я тебе покажу.
А по дороге он все твердил про завод, про то, что он сам как на иголках...
На улице я заметил, что от него неслабо разит. Несмотря на то, что было “недалеко”, он полчаса водил меня по тропинкам и вывел опять на шоссе.
- Вон, - махнул он в темноту, - дорожка за знаком. Туда и иди. Будет одно здание трехэтажное, а потом второе. Это и есть больница.
Мне ничего не оставалось делать, я пересек шоссе и стал искать дорогу, которая оказалась просто грязной колеей, выводившей к большому трехэтажному сооружению. Больше никаких зданий я не видел. В темноте я разглядел сидящих на парапете людей. Они целовались. Я осмелился их потревожить вопросом: что это за здание?
- Это школа.
- А где мне найти больницу?
- А вон туда, направо, по дороге. Там будет трехэтажное здание.
Я поблагодарил, пошел и нашел трехэтажное здание с какими-то прямыми корпусами и попытался войти. Но на мой стук никто не отозвался. Я обошел здание. Вновь заморосил дождь. Это оказалось заброшенным домом с настежь раскрытыми пустыми окнами.
Я хотел уже влезть вовнутрь и переночевать там. Пока даблился, увидел идущую парочку. Спросил, где больница? Они сперва растерялись, потом мужчина сказал:
- Вот по этой дороге и направо.
- Налево, - сказала женщина.
- Направо! - настаивал мужчина. - Ах, да, налево. Там увидите. У нее окна светятся.
Перелез забор и пошел, куда они указали. Какие-то мужики возились у распахнутых настежь дверей неживого кирпичного здания с трубой. Направо, конечно, никаких зданий. Зато налево среди деревьев довольно далеко пробивался свет. Я прошел мимо нескольких частных домов, в которых еще светились окна. Решил, что если откажут в больнице, то постучусь к добрым людям бедным замерзшим путником. (И они отправят меня в больницу или еще куда подальше.)
Больница была окружена стеной, и когда я попал во двор, был неприятно поражен сходством этой больницы с московской, где недавно лежала Рита. Внутри следовало ожидать столь же неприятный прием.
Дверь была открыта, и там горел свет. Я вошел в совершенно голый, если не считать четырех деревянных стульев, и пустой холл. Но за второй дверью, увешанной объявлениями, были слышны голоса. Я постучал, но не получил никакого ответа. Я рванул дверь и вошел.
Это была приемная комната со столом, шкафом и кушеткой, накрытой целлофаном. Здесь сидели две женщины: усатая и чернявая, оказавшаяся фельдшером, и молоденькая сестра. Обе возрились на меня круглыми глазами, словно на привидение.
- Я бы хотел, чтобы вы оставили меня на ночь. Я болен, у меня высокая температура.
- А почему мы должны вас оставлять? - спросила усатая.
- Но вы больница или что?
- Мы больница, а вот вы кто?
- Вам паспорт показать? Пожалуйста.
Начался прямо ментовской допрос: кто, куда, откуда, где работаю? Долго и внимательно врачи листали паспорт.
- Вы бы мне термометр дали. Паспорт можно посмотреть, пока я буду мерить.
Я еле держался на ногах и, не дожидаясь их приглашения, сел. Посмотрел на сестру. Она кивнула: мол, все фельдшер решает.
- Дойдем и до термометра, - сказала фельдшер, продолжая листать. - А взять мы вас не можем.
- Вы хоть температуру смеряйте.
Задав все “кто и что”, а также “почему и зачем” (зачем я к ним пришел, и что они могут вызвать милицию, и кто его знает, кто я такой, и что, вообще, у них трасса), она все же дала градусник. Села и снова стала рассуждать и задавать вопросы. Я-то чувствовал, что со мной, поэтому скоро сказал: “хватит”, вынул термометр, и, не глядя, отдал его фельдшерице. Фельдшерица взяла его, надела очки и так и этак стала крутить.
- Тридцать восемь, - сказала она. (Я ожидал гораздо большего.)
Лишь после этого она спросила, что болит? Я ответил, что голова, живот и легкие, предлагая им сделать вывод по собственному опыту. Фельдшерица сказала, что вызовет врача. Пусть он решает и смотрит.
В ожидании врача я прилег на кушетку, подложив под голову куртку. Сами они мне этого не предложили. Врача не было минут сорок.
- На танцульках наверное, - усмехнулась сестричка.
Пришла женщина со стетоскопом, пожилая и полная. Процедура дознания началась снова. Я поделился предположением о воспалении легких, которое у меня уже случалось. Было заметно, что не верят, придираются к ответам, что-то подозревают (наркотскую ломку что ли?). Потом врач меня ощупала, посмотрела горло, дала две таблетки аспирина и сказала, чтобы я шел себе.
- То есть человека с температурой 38 вы выгоняете ночевать на улице? - поразился я.
- Ну, это не очень большая температура. Сейчас лето, не холодно.
За окном шел дождь.
Но они же дали мне две таблетки аспирина, оказали первую помощь, и теперь я могу спокойно отправиться в гостиницу - за десять километров.
- Как будто там меня возьмут, - возразил я.
- Возьмут, - настаивала врач.
- Как же, даже если вы не берете, хотя обязаны.
Ехать я должен обратно в сторону Курска, ночью, на несуществующих попутках.
- Попросите ГАИ, - говорят мне.
Но почему я должен просить гаишника, и с какой стати он будет мне помогать, если я просто болен? И зачем мне еще куда-то тащиться, когда я и сюда еле дошел?
Исчерпав все аргументы, я спросил их: знают ли они такого драматурга Олби? Они не знали.
- Ну так вот - у него есть пьеса про великую негритянскую певицу Бесси Смит, которая попала в аварию, и ее не приняли в больницу для белых. И она умерла.
Рассказ вызвал на лице врача некую задумчивость. Но у них не было коек, не было матрацев. Поставить кровать в коридор они не могут. Не могут и дать мне ночевать на полу, как я просил. Я сам предложил, что буду спать на этой кушетке, если не помешаю им. Врач готова была разрешить, но вмешалась фельдшерица:
- Где же тогда я буду спать?
Потом вроде нашлась и вторая кушетка.
- Согласен спать в вестибюле? - спросила врач.
- Я на все согласен, - ответил я. - Хоть на полу.
Выволокли кушетку в вестибюль и установили прямо перед предбанником. Здесь было гораздо холоднее, чем у врачей, но все равно лучше, чем на улице. Попытался поднять спинку кушетки, чтобы сделать из нее что-то вроде подушки. Она оказалась сломана.
Врачи скрылись в свой кабинет и долго запирались от меня. Свет продолжал гореть. Я распаковался, закутался в спальник, согрелся и уснул, мечтая только о том, чтобы завтра смог встать и убрести отсюда своими ногами.
Ночью я несколько раз просыпался. Проснувшись в последний раз - почувствовал, что мне стало лучше.
В шесть утра потный, вялый, но живой я вновь собрался, сходил в дабл, где была разбита раковина и вода текла непосредственно в уже переполненное ведро и растекалась по полу. Выпросил у врачей еще таблеток, которые мне щедро отсыпали, и пошел к трассе, прикидывая в уме шансы повторить вчерашний ночной путь. Но все обошлось: я с первой попытки выбрал верное направление.
Больше часу никто меня не брал. Я объяснял это себе тем, что рановато, рановато, водители еще не встали. Я тихо умирал на обочине, приветствуя приближение машины вставанием, поднимал ослабевшую руку и снова садился на рюкзак, как она проезжала. В глазах от света такая резь, что я даже плохо мог ее рассмотреть, ориентируясь более по звуку. Момент ее движения распадался на дискретные отрезки: то далеко, то уже близко. А вот уже и нету. Драйверы опасливо глядели на меня, словно на зачумленного.
Потом поехал, вяло и недалеко. Начались мои обычные мытарства. В начале одиннадцатого утра я был только под Орлом, сменив три машины. И вчера и сегодня меня преследует какой-то безмазовый стоп. Ждешь по часу, чтобы проехать двадцать километров. Я даже вывел некую статистику: берет одна из пятидесяти или больше машин. Водителей-интеллигентов почти нет, а возьмет ли простой пипл - это бабушка на двое сказала.
До Орла везли два местных “философа”. Сперва рассуждали об урожае: как косить, так дождь. Потом пошли о политике. Безапелляционно разобрались с заграницей: да они, западники, на нас молиться должны! Их от Гитлера спасли (и Чингисхана). А они войну хотят развязать. Рейган оружием торгует...
Два очень веселых драйвера из Питера окончательно исправили мой стопный дневник. Но зачем и они рассуждают о политике?! Для них Малюта Скуратов, Меншиков и Берия - люди одного порядка, освобождавшие в общем-то неплохие правительства от ответственности за перегибы. Вот, оказывается, в чем трагедия русского государства: плохие помощники.
Начав трип в таком фиговом состоянии, с приближением к Москве я заметил в моем самочувствии проблески. Словно конь, почуявший конюшню, я становился бодрее и веселее, хотя сутки назад собрался умирать, и к вечеру въехал в Москву почти здоровым человеком, не приняв за весь день вовнутрь ни крошки еды. Это было странное превращение, почти чудесное исцеление. Хорошая погода, близость цели и необходимость ехать вылечили меня. Я лишь чувствовал ужасную слабость, рюкзак казался неподъемным, хоть волоком его волоки. Со стороны я, наверное, выглядел патриотом, возвращающимся из фашистского застенка, или Сизифом, дотолкавшим свой камень, с которым ему запретили расстаться.
Свобода - вещь тяжелая. Но я уже не могу переучиться, сжегши за собой все мосты. Я уже не цветочный человек, украшающий скамейку своей целенаправленной беззаботностью. Я несу тяжелый горб за спиной, меня толкают, но я не слышу слов. Мне хочется уйти подальше от трассы, осесть в мирном домашнем болоте и там по-новому постигнуть Идею.
И я знаю, что впереди месяц-два, а потом отъевшись, наболтавшись, начитавшись, натусовавшись, я вновь почувствую зуд трассы, я вновь буду поднимать руку перед встречными колесами, узнавать и рассказывать истории, избрав новую точку стремления в нашей такой подходящей географии.
И тогда Крым ворвется в мою безоружную память - готовым снимком, чьим-то стихотворением, рукоятью скифского лука. В нем будет и сладкое солнце, и бисер овечьих троп, и вечный ветер. А вокруг амфитеатром будут стоять вымазанные охрой вершины. И под ними будут играть актеры, смешные на своих котурнах-ходулях, но видимые ясно и издалека.
Часть 7. В ТЕНИ ЧУДЕСНЫХ ЗАБОРОВ
Трудно признать, что твое лето уже кончилось, а ты, еще в июне отмотав свой двухнедельный отпуск, полагающийся у нас пролетариям, задыхаясь в московской жаре, тщетно смотришь за край горизонта и мучаешься, как от неразделенной любви. Однако, работая на трех постах на подменах ушедших в отпуск старушек, я правдами и неправдами наскреб себе к середине сентября еще недельку с небольшим.
“Человек есть его свобода”, - сказал Сартр, и я мчусь в электричке в Каширу навстречу этой свободе, листая атлас дорог, “стопник”, как самую интересную книгу, рассчитывая просто жить - трезвея от нашего чумного пира.
Я совершенно спокоен. Для таких, как я, трасса - самое спокойное место. А город, скверно напоминая казарму, не может удержаться от окриков и соблазна испортить фейс. Мое настроение растет пропорционально разделяющему нас расстоянию.
В Кашире выходим на трассу.
Застопленный после недолгих ожиданий драйвер спрашивает, куда едем?
- Пока в Воронеж, - отвечаю я.
- Москва - Воронеж, фиг догонишь! - смеется он.
Наша первая с Ритой остановка и правда была в Воронеже, пятьсот от Москвы: очень хорошо для стопа. Могли бы и больше, но у нас здесь было, где найтать, а это немаловажное обстоятельство. Итак мы еще засветло отыскали двоюродную ритину бабушку. Нормальная еда, нормальная постель, обычные городские разговоры под чай: редкие удовольствия в того рода экспедициях, в которые мы отправляемся.
Я знал, что бабушка - оголтелая коммунистка, и готовился сдерживать себя, чтобы не проявить неучтивость, ввязавшись в обидный для хозяев спор. Но все обошлось. Оказывается, всегда можно найти приемлемые для всех темы, прощая нам, как родственникам, наше индивидуальное безумие, не впадая, как иногда бывает, в панику: ах, что скажут соседи, случайно увидав в замочную скважину мои заплатки на заднице.
Утром ритин двоюродный дядя Алик ведет нас на остановку автобуса, который вывезет нас на окраину. Алик - неплохой человек, но жизнь его тосклива. Он ехал на работу, мы ехали на трассу. Мы снова свежи, и нам нипочем любое количество километров.
В первом грузовике под Воронежем - образок Николая Чудотворца на лобовом стекле среди наклеек с бабами и марксистских значков.
А за окном серебряный Лукич, обращенный к шоссе спиной, поднятой рукой указывал прямо в окно стоящего перед ним серого кирпичного школьного куба.
И далее всю дорогу разрушенные соборы. Не перестроенные, не снесенные вовсе, а именно как бы оскверненные.
Под Воронежем вдоль дороги очень много яблок, картошки и грибов. Какие-то зеленые и желтые помидоры. Тыквы с футбольный мяч.
Отсюда казалось, что в деревнях проживают исключительно старухи. Скрюченные, обвязанные платочками, стоят они между ведер картошки, привалившись на кривые клюки.
Водители делятся на тех, кто везет молча (меньшинство), признавая твое право выглядеть как хочешь, и тех, кто задает вопросы: кто, что, зачем волосы? Для таких надо придумывать обтекаемые и доступные ответы. Конечно, это достает. Хотелось бы раз и навсегда всем сказать: хиппи for stupids - симпатичные молодые люди, бродяги и миролюбцы. А волосы затем, чтобы у Анны Карениной не было шанса увидеть уши.
Пицунда началась для меня с надписи на стене электрички Сочи-Гагра: Love for Peace. Moscow people. Piziunda. И рядом большой пацифик, как положено.
До этого на темной сочинской платформе к нам прикололся вор (как он нам представился), с трудовыми руками и страдающей душой. Звали его Володя. Он сразу украл для нас пачку сигарет в подарок - “Стюардессу”, дамских, на его взгляд. Он был слегка пьян и все просил обратить его в нашу веру, чтобы он бросил воровать и пить. Рита посоветовала ему читать Неустанную молитву. Он сказал: не поможет, потому что не верит.
- Это не имеет значения, - обнадежил я.
На фланирующую по вокзалу публику из него пер страшный агрессив. Для них у Вовы было два наименования: козлы и проститутки. Выкрикивал он это довольно громко, нарываясь на фейсовку.
- Если вы мне не поможете, - кричит он, - пойду кого-нибудь бить!
Отправился провожать нас на электричку. По дороге ему в голову пришла светлая идея: поехать с нами.
- Мне все можно! - храбрится Вова. - Я могу делать все, что захочу!
И все порывался нам чем-нибудь помочь. Кончил тем, что не поехал, и у дверей электрички его свинтили менты. Заодно проверили и мой докyмент.
Вскоре он вернулся - и заговорщически сообщил, что помогла одна записка. И вдруг он совсем раскис и стал настойчиво просить меня послать его сестре в Донецкую область телеграмму, что его больше нет. Это надлежит сделать в том случае, если мы с ним больше не встретимся (в чем он не сомневается, так как пойдет сегодня на большое и экстренное дело). Он упрашивал меня об этом до самого отправления поезда.
- Больше я тебя ни о чем не прошу!
Может быть, я не прав, что этого не сделал.
Став предметом обсуждения в электричке, этот симпатичный вор помог нам познакомиться с художником Сашей из Тюмени, поджарым бородачом сорока лет, диссидентщиком и халтурщиком, едущим, как и мы, оттягиваться в Третье ущелье (вот куда проникла слава о нем!). У себя в Тюмени он изготовляет ленинов и прочую лозунговую дурату.
- А что делать? Мне уже сорок один, надо приобретать положение, иначе поздно будет. Приходится идти на компромиссы, от которых другим никакого вреда - ведь в это никто не верит!
- А кто будет сеять разумное, доброе, вечное? - спросила Рита.
- Пускай телевизор сеет, - усмехнулся он.
За огромный монументальный орден, что сварганила его шарашконтора, ему дали квартиру, которую он не имел ни единого шанса получить. Заказ же на орден достался им лишь за то, что при проверке у его шарашки оказалось меньше приписок, чем у других.
Он много говорил о художниках, погибших, как Минас Аведосян, похожий на раннего Сарьяна, и процветающих проститутках, как Глазунов. В своей Тюмени он имел достаточно информации: об Эрнсте Неизвестном, встрече Дали и Хачатуряна, о разрушении сорока статуй в Летнем саду кавказскими художниками, не зачисленными за национальность в Академию Художеств...
В Гагры приехали в одиннадцать вечера по-местному. Автобус до Пицунды уже не ходил. Шура повел нас в некое место на берегу, где мы могли бы без стрема перенайтать. По дороге вытащили из песка застрявшие “жигули” с развлекающимися молодыми людьми.
Место оказалось зарослью тростника в три-четыре метра высотой. Здесь мы распрощались с Шурой, и он нырнул в проделанный в тростнике лаз. Мы полезли следом и стали на ощупь двигаться по петляющим тропинкам, словно вглубь лабиринта. На вытоптанном, с грудой поломанного тростника пятачке, где в другое время, наверное, ночевали контрабандисты или занимались любовью, мы бросили палатку и решили спать. Тростник трещал под ветром, по нему бегали какие-то животные. Потом нам стало казаться, что сюда ползут люди, те самые контрабандисты, мы напрягали слух, но в шуме тростника ничего не могли разобрать. Рита вздрагивала и хватала меня за руку.
- Мне здесь не нравится. Пойдем отсюда! - панически вскрикивала она.
Меня не трудно было уговорить. Здесь и вправду ночевать было как-то стремно.
Мы решили перебраться поближе к жилью. Когда мы шли по прибрежной улице, застроенной частными домами, более напоминающими виллы, нас затормозил подвыпивший абхазец, запиравший свои ворота. Сперва он предложил нам спать в своей машине, но мы предпочли в саду. Поэтому он отвел нас на огромную, 8 на 4, увитую виноградом веранду, а для Риты еще принес раскладушку.
Утром, отлично выспавшись и попив с нашим хозяином чая, мы скипнули в Пицунду. За два билета до “Рыбзавода” с нас отчего-то взяли рубль.
Знакомая дорога по камням вдоль моря - словно белые камешки из сказок, возвращающие к дому. Солнце, спокойная плещущая вода, жара. Можно ли было вообразить в мутной, уже клонящейся к осени Москве чего-нибудь подобное! Я словно попал в детство, лет на двадцать назад, когда я так любил все эти южные сиропы. Я нагнал-таки убежавшее от меня лето, и меня охватил азарт, я по-мальчишески прыгаю по камням - и разбиваю банку с баклажанной икрой.
Во Втором-с-половиной ущелье мы встретили первых волосатых: мэн и загорающая нагишом герла. Приветствовали друг друга и обменялись информацией... Самое приятное, что есть в волосатых - это стабильное узнавание и приветствование друг друга - хоть на улице, хоть на Луне, причем узнавание подразумевает не личное знакомство, но - “братство по разуму”, и по причинам такого родства означающее заочное знакомство всех малых и больших обитателей Системы.
От этих двоих узнали, что наш друг Леня уже здесь.
С Леней я познакомился этим летом на концерте Сантаны: он, имеющий какой-то липовый пропуск, старался провести нас с Гуру и еще каким-то пиплом через милицейский кордон, что в конце концов, благодаря и моему упорству, ему удалось. Я так и не успел его тогда поблагодарить - мы опрометью ломанулись к сцене - а там наяривал вечный “Автограф”. После мы случайно встретились у метро Сокол, где он жил, а я работал, и он сразу затащил к себе в гости. Дружба произошла у нас бурная, словно влюбленность. Тогда-то я ему и сказал, что собираюсь в сентябре в Пицунду. Он попросился со мной.
В третье ущелье мы попали как-то неожиданно быстро, пройдя через гору, отделяющую второе ущелье от третьего, по пещере, никогда не обещавшей безопасного путешествия в кромешной темноте, и поэтому не всеми избираемой.
Ущелье было забито туристской публикой. Играющие дети, сохнущие трусы, грибы на веревочках, сколоченные из палок столы и стулья, палатки, целлофановые навесы и тенты. В общем, целое хозяйство, мало отличающееся от какой-нибудь подмосковного дачного поселка.
Здесь Лени не было.
Бросили рюкзак у приветливого хозяина одной из таких “дач” и пошли в четвертое искать Леню. Перед четвертым ущельем табличка, которой в прошлом году не было: “Проход запрещен”. Безразлично манкируем ею.
Искать Леню оказалось делом недолгим: к нам навстречу уже шел голый человек в огромных туристских ботинках с развевающимся хаером и что-то радостно кричал или пел. Он делал это свободно, как хозяин территории, встречающий дорогих гостей, может быть, даже вручающий им ключи от города.
За эти дни он успел здесь прочно обосноваться и загорел. С риском для жизни он облазил все эти “запретные” горы в поисках жилья для себя и нас, настолько надежного, чтобы не нашли ни менты, ни пограничники. Я побывал у него “дома”: он жил на самом верху в полупещерке, напоминающей гнездо орла. Вокруг обрывы, сплетения веток и корней - было, где тренировать вестибулярный аппарат.
- Хочешь взглянуть на моего соседа? - спрашивает Леня. Я недоуменно киваю. “Соседом” оказался мертвый козел, лежащий в такой же, как у Лени, пещерке.
Леня жил без палатки: просто кинут спальник, на спальнике томик Кендзабуро Оэ и коробка с красками. Спустились вниз: жить в соседстве с козлом отказались. Потом купались нагишом в парной воде. Офигительный кайф.
Лазать по горам, как Леня, у нас не было ни обуви, ни терпения. Поэтому, отвергнув столь бескорыстно предложенные ключи, палатку мы поставили в третьем, недалеко от “домика” балерины, за каким-то бетонным надолбом (тут их много валяется, говорят, здесь когда-то хотели вести дорогу).
Вечером пришел художник Саша с вайном и виноградом. Опять побазарили с ним за жизнь. Потом к нам присоединились московский Макс и Леня.
Ночью полезли к волосатым, живущим в третьем на горе. Они сидели у костра и поджаривали незакипающий чайник. Теряли время с толком: беспрерывно стебались и угорали. Тут же перла китайская философия, японский язык и прочие смешные вещи. При этом все произносилось с местным абхазским акцентом, что было приколом этого года. Так до поздней ночи мы пили чай и забавлялись, и я в хорошем настроении вернулся к палатке.
Здесь нас нашел Кисла, наш московский приятель, мы опять развели костер и продолжили обычный пицундский треп. Мы рассказали про стоп, про Вову и Сашу. Потом говорили в основном о Паркере, Штокхаузене, Velvet Underground и Grateful Dead (героиновый рок и рок кислотный - Кисла был спец по этим делам). В это время сверху орали какие-то перепившиеся люди. Весьма странно, что никто из них не упал нам на голову.
Утром Леня пришел к нашей палатке с целой кастрюлей только что сваренной гречневой каши. Собираясь заправить ее маргарином, мы обнаружили в нем мертвого скорпиона. Бедняга залез к нам в палатку, но нас не тронул.
Недалеко от нас перекусывали грузинские строители, что сооружают здесь забор, должный отделить третье ущелье от четвертого, включенного в мертвую зону правительственных санаториев, примыкающих к бывшей Сталинской даче. Кайф кончается, все только об этом и говорят, и, может быть, кончается целая эпоха свободы. Но мы еще здесь, не накрытые тенью забора.
- Главное, не построить забор внутри, - утешают себя волосатые.
Искупались и пошли к Федору Щелковскому, старому московскому френду. Он жил с приятелем на горе под целлофановым пологом.
- Добро пожаловать в нашу квартиру, - приглашает нас Федор. В середине “квартиры” самодельный столик, на нем пустая сковородка: хозяева недавно кончили трапезовать.
- Попросил у туристов пару картошек, - рассказывает Федор. - Сварил, а масла нету. Ну, поплевал на сковородку и размазал картошкой: жиров-то хочется!
Следом рассказал про хипповку с грудным ребенком, которая побирается тут по туристам. Заходит она и к Федору, просит: не осталось ли у вас что-нибудь для ребеночка? Раз зашла, два... - Ну, я не выдержал. Говорю ей мягко: что-то больно много жрет твой ребеночек! - Он произнес это со зверской интонацией.
Я вспомнил про упившихся прошлой ночью, оравших над нашей головой. Федор кивает с гордостью:
- Это я орал!
Оказывается, кто-то притащил вечером из Пицунды канистру чачи, и пол-ущелья веселилось.
Все ущелье жрет грибы. Кроме мидий - это единственная здесь белковая пища.
Не откладывая в долгий ящик, мы втроем тоже отправились за грибами. Проходим сотню метров вверх по ущелью, густо заросшему кустами и заваленному упавшими деревьями. И тут находим первые опята, весьма относительно напоминающие подмосковные. С сомнением смотрим на них, но все же срезаем и идем дальше. И в изумлении останавливаемся. Перед нами море грибов - здоровые лопухи устилают все склоны балки, плотно облепляют перекинутые через нее стволы. Забили ими все имеющиеся емкости и немного разочаровано идем назад. Часть грибов кинули в кастрюлю, остальные вывалили сушиться на расстеленный целлофан, служащий для накрытия палатки в дождь. Теперь каждый день у нас был грибной стол. К концу проживания от них уже тошнит. Недоеденные сухие грибы едут с нами в Москву.
Из прошлогодних хиппарей здесь только Макс. Но что один хиппи, что другой - это продукт постоянный и качественный, как мясорубка.
Рассказывать о волосатых приколах бесполезно. Пока еще можно - их нужно послушать живьем. Нужно только самому быть в том же автобусе, чтобы тебя признали и не стеснялись. Тогда хиппари могут во всем объеме продемонстрировать свое обаяние и легко спродуцируют, например, такую сцену: Недалеко от нашего стойбища появился фонарь.
- Леха, это ты? - закричал один. “Леха” не ответил.
- Это не Леха, - последовал чей-то разачарованный комментарий.
- Саня, ты?.. Серега, Вовка, Пашка, Генка... - и пошло-поехало перечисление имен, под смех и угорание, к полному смущению неизвестного обладателя фонаря.
Здешние мои друзья склонны оценивать все явления нашей жизни двумя абсолютно емкими характеристиками: “атас” и “говно”. “Атас” - это фильмы Вайды, музыка “Led Zeppelin” и F. Zapp’ы, стихи Бродского и романы Аксенова, картины Лентулова и Филонова. “Говно” - это весь совок и все, что в нем располагается.
Не изящно, но точно.
Я говорю:
- Те, кто запрещают, тем самым свидетельствуют, что их истины не очевидны и самой жизнью не доказываются, и столь уязвимы для чужих точек зрения, что нуждаются в насильственных средствах, чтобы хоть как-то влиять на мозги.
- Хотите анекдот, - говорит Крис. - Брежнев с трибуны: “Мы хотим мира, желательно всего”.
Крис - занятный человек. Отслужил в Афганистане, потом явился в военкомат и, по образцу вьетнамских ветеранов, швырнул там свои медали. Вьетнамки, шорты из обрезанных джинс, а на голове военная панама. Жалеет, что не сохранил ни одной медальки: это могло бы вызвать уважение у ментов. Повесил бы ее на майку.
Он хорошо пел, играл на гитаре, был легким и веселым. По виду не скажешь, что крутой торчок. Но здесь на берегу наркотиков не было.
Тут вообще многое менялось: ходить за всякой херней в город, два часа в один конец - не набегаешься. Хватило бы на хавку. И люди переставали пить, некоторые - курить, капризные дети начинали все есть.
Четвертое ущелье - заповедная зона: резвящиеся голые люди, голые совсем и голые наполовину, причем нижнюю. Тогда как наверху рубашки и рюкзак. На границе четвертого сидит бритый голый человек, загорелый до черноты, в одной и той же позе лотоса на руках. Сколько я ни проходил мимо него, я ни разу не видел его за другим занятием. Складывалось впечатление, что он не ест и не спит. Чуть дальше на берегу голая девушка, заплетающая и расплетающая свои великолепные длинные волосы. Ее я тоже не видел за каким-нибудь иным делом. Все отдыхают, как умеют.
Бывшие призывники поют пацифистские песни и вспоминают знаменитые выражения из лексикона старшего командного состава: “Тут вам не здесь! Что ты стоишь, как рыба об лед!”
Крис в армейской рубашке и панаме азартно наяривает на гитаре:
- Я-а зарыл свой автомат
Там, где ручьи шумят...
- Чай-май, туды-сюды, то-се, тыры-пыры, - слышится со всех сторон. Это язык, используемый волосатыми для содержательных бесед в Пицунде.
Федор Щелковский прогуливается мимо в какой-то брезентовой хламиде а-ля Волошин. У него, впрочем, для нее иное сравнение:
- Помните босого мэна в котоновом прикиде - на суриковской картине? Что, похож? - спрашивает он, и вертится перед нами, как перед зеркалом. Имелась в виду “Боярыня Морозова”.
Если в первые дни море было необычайно теплое, градусов, может, 25, то однажды утром мы нашли его коварно холодным. Чем-либо объяснить данную метаморфозу было трудно: погода стояла сухая и теплая. Теперь с утра мы долго ждали, пока вода не согреется на солнце на пару градусов, с избытком запасая тепло в теле, прежде чем найти в себе решимость на секунду в нее броситься. Настоящее купание происходило ближе к вечеру. Но утром пытка начиналась снова.
Световой день был короток. В восемь часов солнце пряталось за скалу, и на нас обрушивался зябкий сумрак и ветер. Доставались свитера, разводились костры из запасенных днем дров. И начинали стекаться знакомые.
Нас пригласили откушать с собой грузины-строители. Они собираются возводить здесь забор, потащат его под водой до самой Турции. Наверху горы они его уже построили.
Леня принял обет трезвости, Рита просто не хочет, поэтому отдуваться за всех приходится мне.
Одного из них, самого гостеприимного, зовут Русишвили. Он из Гори. Сочетает в себе ненависть к коммунистам, веру в Христа и любовь к Сталину.
Я заикнулся, что все же Сталин пересажал массу народа.
- Это был великий человек, всей Россией правил. Не нам с тобой судить. А ты знаешь, что он за один час мог целую книгу прочесть?
Беседа спасительно перешла на кухню.
- Кацо, ты что - псих? - обрывает гориец приятеля. - Кто так сациви готовит! Не знаешь - молчи!
Глядя на пицундских волосатых, которые, если так можно выразиться, жили в оптимальной для себя среде, отчего стали отчетливо напоминать бичей, я врубился, что волосатая культура не эстетическая и уж наверняка не литературная. Это культура болтовни, юмора и диалога. Это культура эмоций и музыкально-медитативных упражнений. Она слишком художественна, чтобы быть рассудочной и интеллектуальной. Поэтому и не будет написано великих хипповых романов, подобных тем, что создавали битники.
Ну и фиг с ними. Зато колорит данных мест за себя постоит: прекрасные нагие гурии, чача, домашний коньяк грузин-строителей, ночные чаепития у костра, у которого полдюжины френдов спасаются от ночного колотуна. И менты!!!
...Они появились неожиданно из-за камней со стороны третьего ущелья: два абхазских мента в белых рубашках с коротким рукавом. Первый приказ: надеть трусы. Второй: предъявить документы.
Удрученно сообщаю:
- С этим будут сложности. Мы здесь, а они там.
- Так пусть кто-нибудь сходит!
- Ладно, я пошел.
- Нет, пусть девушка сходит.
- А у меня тут, - говорит Леня и сложным путем отправляется к себе наверх. Жду, что он там и останется, от греха подальше, нас же с Ритой, как и в прошлом году, повезут в Пицунду.
Возвращается Рита с паспортами, возвращается и Леня. Она уже дала знать волосатым про стрем. Я в это время веду душеспасительную беседу с ментами. Они твердят известный назубок текст, что мы позорим родину, валяясь здесь голыми.
- А вы увидели голых только нас, а обычных туристов не видели? Вон там лежат и вон там.
- Когда мы подошли, они оделись, - говорит мент.
- Это наше самое страшное преступление?
- Здесь вас вообще не должно быть.
- Лично нас или всех, кто живет в ущелье?
- Ты видел там табличку: “Проход запрещен”?
- Знаете, мы тут не первый год отдыхаем и все время сюда ходили. Сложилась уже традиция.
- Какая традиция, нарушать закон?
- Да перестаньте, какой закон!
- Такой закон, что нельзя ходить, куда запрещено!
- Не надо ущелье закрывать! - Не хотел я это говорить, само вырвалось.
- Ты тут, что ли, главный? - спрашивает мент. - Ладно, поедешь с нами.
- Куда?
- В Гудауту.
Вот-те на! В Гудауте я еще не был.
- Чего ради? - интересуюсь я.
- Там узнаешь чего!
- Прямо в трусах?
- Ничего, штаны мы тебе привезем. Пошли.
- Да никуда я не пойду.
- Не пойдешь?
- Вы даже не объяснили причину.
- Ладно, мы тебя и отсюда заберем.
Все это уже было, было! Все это жалкий повтор! Меня уже забирали из пруда в Южном Порту московские спасатели (предварительно едва не утопив за отказ лезть в их лодку) и отвозили в отделение. И мент, глядя на меня, требовал:
- Ваши документы.
А я стоял мокрый, на голом полу, в одних плавках и не знал, смеяться или плакать. По коммутатору они в две секунды проверили данные, но не успокоились. Тогда меня отмазал народ, окруживший ментов, когда те привезли меня на катере за вещами:
- Как вам не стыдно, Фестиваль Молодежи, что вы делаете?! Он же ничего не сделал, ну, искупался! Посмотрите - все купаются... (В этом пруду купание почему-то было “запрещено”.)
Я даже не ожидал такой солидарности от нашего бессловесного обычно народа: пролетарские мужики, бабки с детьми, тетки самого презираемого мной типа. Менты поколебались, повертели паспорт и сели в лодку без меня.
Теперь мент отвел меня подальше от остальной компании, связался по рации с катером и попросил помощи.
- Вот что я тебе скажу. Таких, как ты, надо учить. У тебя будут большие неприятности. Это я тебе говорю.
- Какие же?
- Какие? Я сейчас отвезу тебя в Гудауту, там кину в камеру к уголовникам, они тебя вые...т - и тогда ты станешь по-другому разговаривать.
- Ну-ну. Это вы заявляете как представитель закона? Можно, я это всем сообщу?
- А что мне твои все?
- Ничего, ну, чтобы они знали, если со мной что случится.
- А что с тобой случится?
- Ну, там всякое в вашем отделении.
- Ничего с тобой не случится. - Видно, что он уже пожалел, что так сказал.
Появился катер. С него ответили, что подплыть к нам не могут - камни. Вижу, мент в затруднении. Я понял, что надо сделать шаг навстречу, дать ему шанс выйти из этой ситуации как бы победителем.
- Ну, и зачем вам это нужно? Мы что, секреты военные подсмотрели?
- Надо было нормально себя вести!
- Мы поучимся.
- Чем занимаетесь, работа есть?
- Мы художники, сюда в отпуск приехали.
Ментов я знаю вдоль и поперек. Что нужно менту: чтобы ты унизился, когда ты не виноват, попросил бы: дяденька, я больше не буду, и тогда он согласится разговаривать с тобой как с человеком, снизойдет до панибратства и, в общем, ничего тебе не сделает, хотя и мог бы, как он не преминет показать.
Дальше был общий треп, менты расслабились и в конце концов отпустили нас.
Абхазский мент не знал слова “индивидуалист”, но именно это он и хотел инкриминировать нам. Мы не такие, как все, мы не приемлем жизнь такой, как она есть, мы противопоставляем себя, мы индивидуалисты.
Почему индивидуализм - бранное слово для совдепа? Потому что индивидуалист смотрит на сам указующий перст, направляющий коллективный разум миллионов: а что, собственно, ты хочешь этим сказать? а почему ты решил, что сейчас я побегу это выполнять? Индивидуалист - это эгоист, не способный на жертвы ради общего. Поэтому он может беспристрастно смотреть на кумиры, как кошка на короля. Как сказал Бергсон: эгоизм - это проявление свободы и самосознания. Неэгоистическое общество - это муравейник. Индивидуалист сам находит для себя жизненный интерес, и это приводит в ярость совковых идеологов, видящих в нерадивом индивидуалисте препятствие в распространении их глупых побасенок.
Индивидуалист может ошибаться, но его ошибки куда меньше ошибок распоясавшейся массы. Индивидуалисты принадлежат к той породе, из которой формируются вожди, поэтому реальные вожди не переносят их, как своих конкурентов.
Федор был старше нас лет на семь и дольше играл в эти игры. С ним мы вели разговоры о Системе. Мы говорили про ощущение, витавшее в воздухе - что в Идее появилась гнильца. Многие волосатые хоронили Систему и уходили в смежные области, просто больше не являлись на утреннюю перекличку.
Многих погубила военная кафедра (то есть они и тусовались года два, пока были студентами младших курсов), многих - немыслимое невыносимое неблагополучие. Кайф - это особая статья. К сожалению, именно в “свободе” мы нашли себя проще и сильнее всего, тогда как “любовь” оказалась несовместимой с обзаведением дипломами, детьми, постоянными рабочими местами.
Свобода требует несвободы для своего обуздания. Бесформленная свобода ищет формы, где живая душа могла бы дышать, не жертвуя всеми идеалами. Что было бы по-прежнему не от мира сего, и при этом структурировано, организованно и крепко стояло на земле. Что-нибудь такое, чему мы, свободные люди, могли подчиниться - и уже не идти куда-то за тридевять земель искать “истину”, а держать ее крепко в руках, как морскую свинку. Или просто оправдывать свою асоциальность, что до этого делали самопально и хаотично.
Под чем-то я прозрачно намекал на храм. С одной стороны, он как бы вытекал из идейного развития, с другой - спасал от патологических уклонений: от тех же наркотиков, слишком вольной любви, кромешной необязательности и ожидания предательства от нещепетильных и расслабленных братьев.
Я сразу невзлюбил все это, словно измену. Православное доктринерство было мне особенно противно.
Всякая религиозная и социальная доктрина спасения подразумевает спасение и избавление именно для того общего и универсального, что есть у тебя с людьми - путем все большего освобождения от того индивидуального и особенного, что тебя от них отличает. Доктрина не знает спасения для всего тебя, да и не собирается это делать. Ты весь ей неинтересен. То, что не составляет “золота”, которое она и спасает, есть или мишура, или грех. Она претендует на знание исключительного метода спасения, неукоснительное следование которому поставит тебя на высшую ступень в Небесной или земной иерархии. И ее сытные (хоть и нематериальные) пайки должны, видимо, компенсировать жизнь с оглядкой и вечное самоумаление.
Федор говорил, что волосатым верить на слово нельзя. Он помнит все эти разговоры еще с конца 70-х, что Система дает дуба. Старость склонна чернить настоящее и приукрашивать прошлое. Для кого-то, кто принадлежал к Первой Системе и кто судил о делах в ней по своим друзьям, наверное, так оно и было...
Я наблюдал Систему с 79-го, “вступил” в нее в 81-ом и могу поручиться за ее изрядную тогдашнюю жизнеспособность, численность и добротность. Последние махры доживали свои дни среди тех, кто пришел в Систему в середине и в конце 70-х. В конце концов, проходило два года, и возникало новое поколение, а ты уже канал за олдового, молодняк с уважением повторял твою кликуху. Через два года вместе с опытом закрались подозрения в неблагополучии Системы в данный конкретный момент. Одни стали слишком нравственными, то бишь православными, другие постриглись, оставаясь хорошими приятелями под иными марками и масками, или куда-то исчезли, словно их и не было вовсе. Но в 85-ом на Фестивале Молодежи я вдруг узнал о существовании третьей генерации волосатых, возникшей неизвестно откуда и под чьим влиянием. Это были сплошь молодые ребята от 17 до 22, талантливые, веселые, честные - в общем, воплотившие в себе лучшие черты, необходимые для данной роли. Именно с ними и проходила теперь моя экстравертная часть жизни. Скоро постареет и эта самая молодая генерация, а о какой-нибудь новой мне пока неизвестно, да и не особенно хочется знать. Вряд ли я теперь хорошо пойму восемнадцатилетнего, то есть сумею разделить его восторги и упования. Даже если он прав по сути (что я легко допускаю: я знаю это побуждение к идеалу, заставляющее идти в Систему), то в частностях-то он уж наверняка будет неправ, малоубедителен и наивен. Есть идеи о жизни, есть легенды, и есть практика жизни. И практика всегда на два порядка ниже идей по своей духовной значимости и наполненности. И какой бы Дети Цветов ни заслужили благодарности и почтения за проделанную работу, все же именно дети и цветы вырастают и увядают наиболее быстро...
- Но, в конце концов, именно это и спасало до сих пор Систему от маразма, - возражает мне Федор.
Ночное южное небо, звезд, как на американском флаге. Не хватает только тепла, чтобы созерцать роскошь неизвестных мне созвездий и бледную знаменитость - Млечный Путь, ровно по середине обозреваемого неба.
Кончается сентябрь. Я уже исчерпал весь положенный лимит времени. Хиппари прощаются с нами. Они здесь просидят еще весь октябрь, а кто-то даже останется на ноябрь. Жить так не очень комфортно, но уровень свободы этих людей вызывает во мне глухие сожаления.
Утром мы втроем снимаемся в обратный путь. Довольно холодно. На берегу по щиколотку в воде стоит мужик в плавках и поет: “Эх, хорошо в стране советской жить!..”
По дороге в Пицунду знаменитые ленины туристские ботинки развалились прямо на нем. Леня кинул их со скалы в воду и остался босиком.
В Пицунде я впервые в жизни попробовал аскать, выбрав для этого местных абхазов, сидящих на веранде кафе: дайте сколько можете, у человека обувь развалилась, домой ехать не в чем. Хоть какие-нибудь тапочки купим. Они смотрели на меня, слушали и ничего не давали.
Делать нечего: я предложил Лене свои самодельные вьетнамки: кусок кожи с двумя тесемками, специально сделанные, чтобы ходить здесь по раскаленным камням. В них он и сел в поезд.
В поезде Сухуми-Москва нам досталось худшее место - у сортира. Отличный поезд: с неработающим тэном (что стало актуально ближе к Москве) и незакрывающейся дверью в дабл на одной петле.
- С дверью надо как с девушкой, - объяснил мне донецкий житель, наш сосед.
- Много чести. Просто надо кое-что чинить, прежде чем пускать вагон в эксплуатацию.
Неожиданное открытие: русские люди продолжают верить. Православие так и не истребилось в них, а живет даже через поколения. Их отцы и деды поменяли веру, но лишь чуть-чуть прошел страх, и люди нашли в себе то, чему их никто не учил. Пусть даже пока, как язычники, они курят и тем и другим: и Христу и Марксу.
На эту мысль навела женщина из Донецкой области. В тринадцать лет, во время войны, она добровольно ушла на работу к немцам, чтобы спастись от голода. Работала под Кенигсбергом. Сперва подметала и мыла служебные помещения за жилье и еду, потом работала на консервном заводе.
О немцах у нее остались самые радужные воспоминания (хорошо кормили, на фермах чистота, механизация). Самые мрачные - о пришедших русских: насиловали даже старух. Насиловали русских - как предателей.
Германия отдавалась на разграбление солдатам, как какой-нибудь античный Тир. И все считали это справедливым.
Под видом возвращения домой возвращающимся давали двадцать пять лет лагерей. Вещи хорошо известные, странно было лишь слышать эту диссидентскую ересь из уст этой по виду простой женщины. Как естественно, как бесхитростно она это рассказывает! Дядя Сэм платит ей, небось, приличные деньги.
Граждане с ней не спорили, но слушали ее ахинею без сочувствия. А мы сочувствовали напропалую: “Как сладостно отчизну ненавидеть!”
А за что любить-то?! Век за веком побеждая всех своих врагов, не по уму сильные, мы выиграли меньше тех, кто проиграл. Мы просто до предела растормошили свое тщеславие и самодовольно заснули, как Иван на печи, в то время как мир безнадежно ушел вперед. Распластавшийся за окном вид, с нищими деревнями и оголенными полями... сломанная дверь, сломанная полка, сломанный бойлер для воды, - ох, лучше бы мы хоть раз проиграли! А еще пьяный проводник, орущий на нас и учащий меня уму-разуму, предлагающий “сперва привести себя в нормальный вид, а потом требовать нормальных условий”. Известно, поезд сделан для пользы и удобства проводника. Он решил выгнать нас из освободившегося купе, не поленился сбегать к начальнику поезда, своему дружбану, и убедил его не давать нам лучших мест. Вместе с проводниками соседнего вагона, тупыми дикарями, устроил травлю: оскорблял, угрожал и требовал, чтобы мы убрались из купе. В лице новых пассажиров без мест, настоящих штрейкбрехеров, нашел себе рычаг и для начала стравил нас с ними. Хамы, не готовые уступить ни грамма удобств, они с готовностью откликнулись на предложение согнать нас, измученных предыдущей ночью, с удобных мест, чтобы занять их самим.
Для них мы были полное дерьмо, чье место, словно в камере, совершенно законно должно быть у параши. Для них наш мир, вероятно, и есть большая камера.
Странно видеть, как некоторые советские люди сводят счеты с так называемой “западной” культурой, к которой, естественно, причисляют и нас, о которой критических статей здесь читают больше, чем видят живьем. Когда она вдруг и мелькнет (она ли?) на улицах наших городов - тут же находятся десятки сознательных граждан, которые без всякого принуждения накинутся на “зло”, публично облают и обосрут его. Реакция на “зло” такого рода у советского человека железная - будто оно действительно в течении десятилетий отравляло ему жизнь и активно его затрагивало. Его нетерпимость ко “злу” есть направленное по определенному руслу его собственное зло, используемое в стратегических целях посредством выпускания нездоровых паров. Такая “саморегуляция” отношений давно существует в армии.
В киоске на харьковской платформе усатая украинская тетка в который раз стала глядеть в корень моей предполагаемой безродности:
- Да кто ты такой, да ты наш, что ли? Ты, небось, на улице ночуешь - забыл подстричься!
Я спросил:
- Чего вам надо? Разве я заплатил не советскими рублями?
Советских рублей ей действительно было мало. Ей еще хотелось покуражиться с чувством морального превосходства.
Я вспомнил, как зимой в кафе на Петровке меня отказались обслуживать, посоветовав вначале побрить бороду. Поистине, я стал каким-то белым негром в родной стране, удостаиваясь бессознательной ненависти со стороны взяточников, пьяниц, проныр и прочих честных советских граждан.
Купленное же в том ларьке детское питание в виде “яблочно-клубничного пюре” снизу оказалось наполнено битым стеклом. В отличие от американских банок “с сюрпризом” в сколько-то там долларов, здесь был сюрприз ценной в здоровье.
Кончилось все это ритиной истерикой и настоящей дракой с наглой растрепанной герлой, раз десять подряд не закрывшей дверь в дабл. После этого мы просто стали заворачивать идущих в сортир людей. А потом я пошел к весело лялякающему с подцепленными девицами проводнику и страшно нахамил ему, обозвав под конец стервой.
А нас еще спрашивают, почему мы путешествуем стопом?! Ведь у нас сервис на том и стоит, чтобы довести тебя до нервного припадка за полученные “удобства”.
А в Москве, куда мы, наконец, приехали, шел снег. И по этому снегу Леня невозмутимо попилил домой во вьетнамках.
В оправдание единственной круглогодично отстреливаемой породы существ:
Волосы - это атрибут святых, художников и бродяг: одержимых людей. И обладатели их прекрасно знают, на кого работают и кем это будет воспринято. Хотя я отлично понимаю, что проводник поезда “Сухуми-Москва”, хвастающий не излишком совести, а сплоченностью со своими дружбанами, - этого не поймет. На ощупь обозвав нас “перестройкой”, он сам отмахнулся от этой характеристики, видимо, как от слишком лестной, и сказал просто, что нас надо повесить. Помнится, в прошлом году на ступенях пицундской ментовской честная советская женщина решила, что таких надо сжигать.
Нас отказываются кормить и отказываются принимать жалобы на плохое обслуживание. Вместо этого нас учат, как жить и как полагается выглядеть, чтобы удовлетворить тонкий эстетический вкус проводника поезда или продавщицы. Мы изверги и иностранцы в собственной стране. Так, может, стоит признать этот факт и просто отпустить нас на все четыре стороны?
Объективный мир, воспринимаемый и отражаемый сознанием, есть гипотеза, а не аксиома, как утверждают марксисты. Хорошо, что я не марксист. Будь я марксист, я бы давно повесился!
А я признаюсь в любви к пьяной нищете нашей: нас может излечить только то оружие, которое ранило, нам помогут только там, где искалечили, нас поймет лишь тот, кто, как и мы, влип в этот безумный расклад. Существа, погибшие для другой жизни, наше избавление там же, где и наше несчастье, и где мертвая вода, там и живая.
А пока я звоню приятелям и говорю:
- Мы приехали...
Я еще не знал, что это был последний в моей жизни стоп, что это мой последний в жизни неконтролируемый отдых, что пицундский забор - уже выстроен.
А потом хлынувшая через край свобода сметет вообще все заборы, и мы, ничем не связанные, разлетимся в разные стороны, чтобы уже никогда не встретиться - ни в Москве, ни на Гауе, ни в Пицунде. И затянувшаяся молодость кончится. И ты потеряешь моральное право высокомерно проходить мимо, не пачкаясь о ложно устроенный мир, но тоже поддашься соблазну построить его заново, мир, о котором ты всегда мечтал, нарисовать свой безумный орден, ради славы или хотя бы квартиры, потому что это будет твой шанс, наступит твое время. Одни уйдут в искусство или религию, другие в коммерцию, прочие - вообще никуда. Но куда бы они все ни ушли, если только будут живы, они никогда не забудут, как были хиппи, как нельзя забыть когда-то испытанное ощущение счастья и истины.
И когда через много лет ты поймешь, что у тебя ничего, по большому счету, не вышло - ты начнешь искать свой мир, и найдешь его там, где, окольцованные со всех сторон заборами, мы были вместе, любили друг друга, и умерший Крис наяривал на гитаре:
Мой сосед уехал в хипп-турне,
Он теперь, наверно, в Ашхабаде,
Естудей, тудей энд эврибади,
Обещал бутылку “каберне”.
Нэ-э-э, нэ-нэ, нэ-нэ,
Нэ-э-э, нэ-нэ, нэ-нэ,
Нэ-э-э, нэ-нэ, нэ-нэ,
О-у йе-е!.. Ту-ду-ду...
1982-87, 1999
(СЛОВАРЬ СЛЕНГА)
Аскать (слнг.) - попрошайничать мелкие деньги на улице (от англ. ask - просить).
Базар (слнг.) - возбужденный разговор, спор. Соответственно, базарить - разговаривать, спорить.
Безмазовейший (безмазовый) (слнг.) - неудачный, дурной (полагаю, от феньского маз - вор. Отсюда мазурить - воровать. С другой стороны: в банковской игре - маз - прибавка к ставке. Очевидно, что безмазовый первоначально - либо: неудачный для воровства (момент или объект), либо: не приносящий прибыли.).
Бэк (слнг.) - задница (от англ. back - в сленговом варианте обозначающего эту часть тела).
Вайн (слнг.) - вино (из англ.)
Винтить (слнг.) - арестовывать. Быть свинченным - быть арестованным органами правопорядка. Попасть на винт - попасть в облаву.
Вломак (влом) (слнг.) - наречие, определяющее нежелательность действия. Соответствует нормативному “не хочется”.
Вмазаться (слнг.) - употребить какой-либо наркотик или психотропное средство внутривенно.
Волосатые - самообозначение русских хиппи.
Вписаться (слнг.) - попасть куда-либо не совсем заслуженно, напр. - в машину во время автостопа; найти бесплатную вписку - ночевку.
Врубаться (слнг.) - постигать (что-либо), часто - каким-нибудь нетрадиционным образом. Соответственно, вруб - специфическая точка зрения на вещи (ср. “мой вруб”, “неврубной человек”, “Понять ничего нельзя, но можно врубиться” (Гуру).).
Выстёбывать (слнг.) - насмехаться, издеваться (полагаю, от трад. русск. “стебать” - стегать, шить, а также: сыпать словами, ничего не слушая). Соответственно, стёб - насмешка, специфический волосатый юмор.
Герла (слнг.) - девушка (что очевидно) (из англ.).
Дабл (слнг.) - туалет (от английских литер WC, обозначающих известное заведение). Соответственно, даблиться - справлять нужду.
Дербан (слнг.) - сбор мака (не для букетов и венков).
Достать (-вать) (слнг.) - делать кому-либо что-либо неприятное, надоедать (ср. “Он меня достал” - он мне надоел).
Драйвер (слнг.) - водитель (как правило “дальнобойного” автотранспорта) (из англ.).
Дринчить (дринкать) (слнг.) - употреблять алкоголь (из англ.) Соответственно, дринчер - алкоголик.
Дурка (слнг.) - дурдом, психбольница.
Забивать (забить) (слнг.) - 1) наполнять косяки (см.); 2) отказываться от какого-либо дела, напр.: “Я прик (см.) забил на это” - бесповоротно отказался; 3) договариваться о месте встрече: “забить стрелку”.
Кайф (слнг.) - 1) наркотики; 2) что-то хорошее; 3) положительная оценка чего-либо: “это в кайф” - это хорошо, ништяк, клёво.
Канать (слнг.) - 1) делать вид, выдавать себя за кого-то; 2) подходить: “это не канает” - это не подходит. Полагаю, из общеворовского жаргона.
Квасить - употреблять алкоголь. Широко распространенное жаргонное выражение.
Косяк (слнг.) - папироса (самокрутка) с марихуаной. “Мы с приятелем в Посаде /Забивали косяки./ Кто же знал, что нас посадят/ За такие пустяки!” (фольклор).
Клёво - то же, что кайф 3. Широко распространенное жаргонное выражение.
Кид (слнг.) - молодой волосатый резервист, наш человек (из англ.).
Кинуть (кидать) (слнг.) - украсть, надуть (ср. “И ради чего-то, чем травят клопов,/ Твой друг тебя кинуть готов.” (Умка).).
Кликуха (слнг.) - прозвище; настоящее имя, под которым волосатый зафиксирован в Системе.
Клюшка (слнг.) - девушка.
Комок (слнг.) - стихийное место обмена пластинок. В 70-е в Москве он располагался на Самотечной площади, отчего его второе название “Самотека”. Много раз разгонялся милицией при участии поливальных машин.
Креза (слнг.) - дурдом, психбольница (от англ. crazy - помешанный). Соответственно: крезак: 1) обитатель или бывший пациент этой больницы; 2) человек, ведущий себя не всегда адекватно.
Крутняк (слнг.) - существительное, обозначающее что-то очень серьезное, событие или явление в его апофеозе.
Ксива - паспорт. Общеворовской жаргон. Соответственно, ксивник (слнг.) - нашейная сумочка для хранения ксивы. Важная деталь хиппового туалета.
Кукнар (кукер) (слнг.) - “супец” из маковых головок, страшная гадость.
Лажа - что-то негативное. Широко распространенное жаргонное выражение.
Ломка (слнг.) (обычно мн. ч.) - абстинентный синдром, вызванный обидным отсутствием кайфа в крови; наркотическое голодание.
Маза (слнг.) - см. безмазовейший. Обычно в словосочетании “есть маза” - шанс, удачное стечение обстоятельств. Соответственно: без мазы - не имеет шанса, либо просто: мне не нравится, не в кайф.
Машина (слнг.) - шприц.
Мент (слнг.) - милиционер. Широко распространенное жаргонное выражение.
Мэн (слнг.) - человек мужского пола (из англ.).
Найтать (слнг.) - ночевать (из англ.).
Наколка (слнг.) - адрес какого-либо системного человека, которым можно воспользоваться в чужом городе или месте.
Ништяк - что-то хорошее. Широко распространенное жаргонное выражение. Во множественном числе (ништяки) часто обозначает наркотики.
Облом (слнг.) - неудача (ср. вломак).
Олдовый (слнг.) - старослужащий хипповых подразделений. Старый хип, то есть кому около 30-ти и кто имеет стаж тусования не менее пяти лет (из англ.).
Отмазать (отмазаться) (слнг.) - увести из-под удара, вырвать(ся) из цепких рук правоохранительных органов.
Отписать (слнг.) - отказать в контакте (ср. вписаться), послать далеко.
Оттягиваться - отдыхать, ничего не делать, хорошо проводить время. Глагол взят из лексикона митьков. Соответственно, оттяг - существительное с этим же значением.
Парадняк (слнг.) - подъезд. Место ночевки или досуга в плохую погоду. “Обиталище, где найтать стрёмно” (из словаря Василия Бояринцева - Васи Лонга).
Перента (перенса) (слнг.) - родители (из англ.)
Пацифик - “крест мира”, изобретен Джеральдом Холтоном в 1958 г. Интернациональный символ мира (в виде “птичьей лапы” в круге), основан на знаках N и D (Nuclear Disarmament, ядерное разоружение) семафорной азбуки. Родовой и наиглавнейший знак всех хиппи, как крест для христиан или звезда для марксистов.
Пионер (слнг.) - молодой хиппи, юный резервист Системы (негативное).
Пипл (слнг.) - волосатый (наш) народ (из англ.).
План (слнг.) - гашиш.
Полис (слнг.) - милиция (из англ.).
Прик (слнг.) - соответствует русскому выражению из трех букв (от англ. сленгового prick).
Прикид (слнг.) - одежда.
Прикол (слнг.) - имеет широкий смысл, но без семантической связи с предшествующими приком и прикидом; вообще что-то хорошее, неожиданное, странное. Соответственно, приколоться - 1) что-либо полюбить (делать), принять какое-то нетривиальное решение; 2) понять что-либо не очень очевидное (напр.: “ну, приколись!” в смысле: ну, пойми, оцени, врубись).
Рассекать (слнг.) - бесцельно бродить, привлекая к себе возмущенное внимание неврубающихся.
Рубиться (вырубаться) (слнг.) - отключаться, засыпать.
Система - часть советского андеграунда, освоенная хиппи как собственная вотчина; совокупность волосатого народа.
Скипнуть, скипать (слнг.) - сбежать (полагаю, заимствовано из офенского).
Соскочить (соскакивать) (слнг.) - избавиться от привязанности к наркотикам.
Спичить (слнг.) - разговаривать (из англ.).
Стопить (слнг.) - останавливать машины во время передвижения стопом (автостопом).
Стрём (слнг.) - опасность. От офенского “стрём” - опасность, сторож. Соответственно, стрёмный - опасный, дурной, стрематься - бояться.
Стрелка (слнг.) - место встречи; употребляется в словосочетании “забить стрелку”.
Стрит (слнг.) - место для преимущественного тусования (см.) в городе, где волосатые всегда могут найти своих.
Сутки (слнг.) - отбытие 15 и больше суток за мелкие правонарушения, как то: отсутствие паспорта, прописки, наличие длинных волос, неподчинение или протест против действий милиции. Употребляется в словосочетаниях: “попасть на сутки”, “залететь на сутки”, “впаять сутки”.
Телега (слнг.) - 1) какое-либо не совсем достоверное высказывание, повествование; главная форма словесного творчества хиппи; употребляется с глаголом гнать (ср. “Ну, он телег нагнал!”); 2) письменное извещение, как правило из милиции, направляемое по месту жительства или работы правонарушителя (ср. “накатать телегу”).
Торчать (слнг.) - обычно: регулярно употреблять наркотические вещества. Расширительно: чем-то сильно увлекаться, быть в восторге: “Я торчу от этой группы”.
Трава (слнг.) - марихуана.
Трахаться (слнг.) - 1) русифицированный вариант факаться (см.); 2) совокупляться.
Триппер-бар (слнг.) - кожно-венерологический диспансер.
Трубы (слнг.) - вены, веняки.
Тусоваться (слнг.) - убивать время с такими же балбесами, как ты сам. Соответственно, тусовка - совокупность этих балбесов (в настоящее время общеупотребительно).
Угорать (слнг.) - веселиться.
Урел (урлак) (слнг.) - уличный хулиган, неизменный антагонист хиппи. Широко распространенное жаргонное выражение.
Фак (слнг.) - какая-либо неприятная деятельность. Соответственно, факаться - заниматься чем-либо неприятным (работать, напр.). От англ. сленгового fuck - неподцензурно заниматься любовью.
Фейсовка (слнг.) - порча фейса (лица) недружественными урлаками. Попросту - драка (от англ. face - лицо).
Фенька (слнг.) - 1) самодельное украшение хиппи, используемое как опознавательный знак. Важная деталь хиппового прикида; 2) то же, что прикол.
Флэт (слнг.) - вообще квартира (очередное заимствование из любимого языка). Здесь - стоянка волосатого человека.
Френд (слнг.) - друг (из того же языка). Соответственно, френдовать - дружить, зафрендовать(ся) - подружиться.
Хавка (слнг.) - еда. Соответственно, похавать - поесть. Русский воровской жаргон.
Хаер (хайр) (слнг.) - волосы (снова заимствование из англ., но творчески преображенное в плоскости фонетики). Соответственно, хайрание - лишение этих самых волос, стрижка (в ментах, например). Есть гениальное слово хаернахерская - “парикмахерская”.
Хайратник (слнг.) - тесемка для волос на манер индейской.
Хайк (слнг.) - автостоп (от англ. hitchhike - путешествовать автостопом). Соответственно, хайкер - автостопщик.
Хилять(слнг.) - то же, что рассекать (см.) (ср. “хилять по стриту”).
Черная (слнг.) - самый популярный и примитивный продукт из разряда опиатов, добываемый с помощью домашней варки.
Шиз (слнг.) - сумасшедший (положительная характеристика). От “шизофреник”, что очевидно. Соответственно, шиза - что-то или кто-то сумасшедший, безумный.
Ширяться (слнг.) - то же, что вмазываться (см.)